Я продолжал бы, да того гляди —
Он мне крюком всю спину измочалит».
Начальник, увидав, что впереди
Стал Забияка, изготовясь к бою,
Сказал: «Ты, злая птица, отойди!»
«Угодно вам увидеть пред собою, —
Так оробевший речь повел опять, —
Тосканцев и ломбардцев, — я устрою.
Но Загребалам дальше нужно стать,
Чтоб нашим знать, что их никто не ранит;
А я, один тут сидя, вам достать
Хоть семерых берусь; их сразу взманит,
Чуть свистну, — как у нас заведено,
Лишь только кто-нибудь наружу глянет».
Собака вскинул морду и, чудно
Мотая головой, сказал: «Вот штуку
Ловкач затеял, чтоб нырнуть на дно!»
И тот, набивший на коварствах руку,
Ему ответил: «Подлинно ловкач,
Когда своим же отягчаю муку!»
Тут Косокрыл, который был горяч,
Сказал, не в лад другим: «Скакнешь в пучину, —
Тебе вдогонку я пущусь не вскачь,
А просто крылья над смолой раскину.
Мы спустимся с бугра и станем там;
Посмотрим, нашу ль проведешь дружину!»
Внемли, читатель, новым чудесам:
В ту сторону все повернули шеи,
И первым тот, кто больше был упрям.[293]
Наваррец выбрал время, половчее
Уперся в землю пятками и вмиг
Сигнул и ускользнул от их затеи.
И тотчас в каждом горький стыд возник;
Всех больше злился главный заправило;[294]
Он прыгнул, крикнув: «Я тебя настиг!»
Но понапрасну: крыльям трудно было
Поспеть за страхом; тот ко дну пошел,
И, вскинув грудь, бес кверху взмыл уныло.
Так селезень ныряет наукол,
Чтобы в воде от сокола укрыться,
А тот летит обратно, хмур и зол.
Старик, все так же продолжая злиться,
Летел вослед, желая всей душой,
Чтоб плут исчез и повод был схватиться.
Едва мздоимец скрылся с головой,
Он на собрата тотчас двинул ногти,
И дьяволы сцепились над смолой.
Но тот не хуже, чтоб нацелить когти,
Был ястреб-перемыт, и их тела
Вмиг очутились в раскаленном дегте.
Их сразу жгучесть пекла разняла;
Но вызволиться было невозможно,
Настолько прочно влипли их крыла.
Тут Борода, как все, томясь тревожно,
Велел, чтоб четверо, забрав багры,
Перелетели ров; все безотложно
И там и тут спустились на бугры;
Они к увязшим протянули крючья,
А те уже спеклись внутри коры;
И мы ушли в разгар их злополучья.

Песнь двадцать третья
Круг восьмой — Пятый ров (окончание) — Шестой ров — Лицемеры
Безмолвны, одиноки и без свиты,
Мы шли путем, неведомым для нас,
Друг другу вслед, как братья минориты.[295]
Недавний бой припомянув не раз,
Я баснь Эзопа вспомнил поневоле,
Про мышь и про лягушку старый сказ.[296]
«Сейчас» и «тотчас» сходствуют не боле,
Чем тот и этот случай, если им
Уделено вниманье в равной доле.

И так как мысль дает исток другим,
Одно другим сменилось размышленье,
И страх мой стал вдвойне неодолим.
Я думал так: «Им это посрамленье
Пришло от нас; столь тяжкий претерпев
Ущерб и срам, они затеют мщенье.
Когда на злобный нрав накручен гнев,
Они на нас жесточе ополчатся,
Чем пес на зайца разверзает зев».
Я чуял — волосы на мне дыбятся
От жути, и, остановясь, затих;
Потом сказал: «Они за нами мчатся;
Учитель, спрячь скорее нас двоих;
Мне страшно Загребал; они предстали
Во мне так ясно, что я слышу их».
«Будь я стеклом свинцовым,[297]я б едва ли, —
Сказал он, — отразил твой внешний лик
Быстрей, чем восприял твои печали.
Твой помысел в мои помысел проник,
Ему лицом и поступью подобный,
И я их свел к решенью в тот же миг.
И если справа склон горы удобный,
Чтоб нам спуститься в следующий ров,
То нас они настигнуть не способны».
Он не успел домолвить этих слов,
Как я увидел: быстры и крылаты,
Они уж близко и спешат на лов.
В единый миг меня схватил вожатый,
Как мать, на шум проснувшись вдруг и дом
Увидя буйным пламенем объятый,
Хватает сына и бежит бегом,
Рубашки не накинув, помышляя
Не о себе, а лишь о нем одном, —
И тотчас вниз с обрывистого края
Скользнул спиной на каменистый скат,
Которым щель окаймлена шестая.
Так быстро воды стоком не спешат
Вращать у дольной мельницы колеса,
Когда струя уже вблизи лопат,
Как мой учитель, с высоты утеса,
Как сына, не как друга, на руках
Меня держа, стремился вдоль откоса.
Чуть он коснулся дна, те впопыхах
Уже достигли выступа стремнины
Как раз над нами; но прошел и страх, —
Затем что стражу пятой котловины
Им промысел высокий отдает,
Но прочь ступить не властен ни единый.
Внизу скалы повапленный народ[298]
Кружил неспешным шагом, без надежды,
В слезах, устало двигаясь вперед.
Все — в мантиях, и затеняет вежды
Глубокий куколь, низок и давящ;
Так шьют клунийским инокам[299]одежды.
Снаружи позолочен и слепящ,
Внутри так грузен их убор свинцовый,
Что был соломой Федериков плащ.[300]
О вековечно тяжкие покровы!
Мы вновь свернули влево, как они,
В их плач печальный вслушаться готовы.
Но те, устав под бременем брони,
Брели так тихо, что с другим соседом
Ровнял нас каждый новый сдвиг ступни.
И я вождю: «Найди, быть может ведом
Делами или именем иной;
Взгляни, шагая, на идущих следом».
Один, признав тосканский говор мой,
За нами крикнул: «Придержите ноги,
Вы, что спешите так под этой тьмой!
Ты можешь у меня спросить подмоги».
Вождь, обернувшись, молвил: «Здесь побудь;
Потом с ним в ногу двинься вдоль дороги».
По лицам двух я видел, что их грудь
Исполнена стремления живого;
Но им мешали груз и тесный путь.
Приблизясь и не говоря ни слова,
Они смотрели долго, взгляд скосив;
Потом спросили так один другого:
«Он, судя по работе горла, жив;
А если оба мертвы, как же это
Они блуждают, столу[301]совлачив?»
И мне: «Тосканец, здесь, среди совета
Унылых лицемеров, на вопрос,
Кто ты такой, не презирай ответа».
Я молвил: «Я родился и возрос
В великом городе на ясном Арно,
И это тело я и прежде нес.
А кто же вы, чью муку столь коварно
Изобличает этот слезный град?
И чем вы так казнимы лучезарно?»
Один ответил: «Желтый наш наряд
Навис на нас таким свинцовым сводом,
Что под напором гирь весы скрипят.
Мы гауденты[302], из Болоньи родом,
Я — Каталано, Лодеринго — он;
Мы были призваны твоим народом,
Как одиноких брали испокон,
Чтоб мир хранить; как он хранился нами,
Вокруг Гардинго видно с тех времен».[303]
Я начал: «Братья, вашими делами…» —
Но смолк; мой глаз внезапно увидал
Распятого в пыли тремя колами.
Он, увидав меня, затрепетал,
Сквозь бороду бросая вздох стесненный.
Брат Каталан на это мне сказал:
«Тот, на кого ты смотришь, здесь пронзенный,
Когда-то речи фарисеям[304]вел,
Что может всех спасти один казненный.[305]
Он брошен поперек тропы и гол,
Как видишь сам, и чувствует все время,
Насколько каждый, кто идет, тяжел.
И тесть его[306]здесь терпит то же бремя,
И весь собор,[307]оставивший в удел
Еврейскому народу злое семя».
И видел я, как чудно поглядел
Вергилий на того, кто так ничтожно,
В изгнанье вечном, распятый, коснел.
Потом он молвил брату: «Если можно,
То не укажете ли нам пути
Отсюда вправо, чтобы бестревожно
Из здешних мест мы с ним могли уйти
И черных ангелов не понуждая
Нас из ложбины этой унести».
И брат: «Тут есть вблизи гряда большая;
Она идет от круговой стены,
Все яростные рвы пересекая,
Но рухнула над этим; вы должны
Подняться по обвалу; склон обрыва
И дно лощины сплошь завалены».
Вождь голову понурил молчаливо.
«Тот, кто крюком, — сказал он наконец, —
Хватает грешных, говорил нам лживо».
«Я не один в Болонье образец
Слыхал того, как бес ко злу привержен, —
Промолвил брат. — Он всякой лжи отец».
Затем мой вождь пошел, слегка рассержен,
Широкой поступью и хмуря лоб;
И я от тех, кто бременем удержан,
Направился по следу милых стоп.

Песнь двадцать четвертая
Круг восьмой — Седьмой ров — Воры
Покуда год не вышел из малюток
И солнцу кудри греет Водолей[308],
А ночь все ближе к половине суток
И чертит иней посреди полей
Подобье своего седого брата,[309]
Хоть каждый раз его перо хилей, —
Крестьянин, чья кормушка небогата,
Встает и видит — побелел весь луг,
И бьет себя пониже перехвата;

Уходит в дом, ворчит, снует вокруг,
Не зная, бедный, что тут делать надо;
А выйдет вновь — и ободрится вдруг,
Увидев мир сменившим цвет наряда
В короткий миг; берет свой посошок
И гонит вон пастись овечье стадо.
Так вождь причиной был моих тревог,
Когда казался смутен и несветел,
И так же сразу боль мою отвлек:
Как только он упавший мост приметил,
Он бросил мне все тот же ясный взгляд,
Что у подножья горного[310]я встретил.
Он оглядел загроможденный скат,
Подумал и, кладя конец заботам,
Раскрыв объятья, взял меня в обхват.
И словно тот, кто трудится с расчетом,
Как бы все время глядя пред собой,
Так он, подняв меня единым взметом
На камень, намечал уже другой
И говорил: «Теперь вот тот потрогай,
Таков ли он, чтоб твердо стать ногой».
В плаще[311]бы не пройти такой дорогой;
Едва и мы, с утеса на утес,
Ползли наверх, он — легкий, я — с подмогой.
И если бы не то, что наш откос
Был ниже прежнего, — как мой вожатый,
Не знаю, я бы вряд ли перенес.
Но так как область Злых Щелей покатый
К срединному жерлу дает наклон,
То стены, меж которых рвы зажаты,
По высоте не равны с двух сторон.
Мы наконец взошли на верх обвала,
Где самый крайний камень прислонен.
Мне так дыханья в легких не хватало,
Что дальше я не в силах был идти;
Едва взойдя, я тут же сел устало.
«Теперь ты леность должен отмести, —
Сказал учитель. — Лежа под периной
Да сидя в мягком, славы не найти.
Кто без нее готов быть взят кончиной,
Такой же в мире оставляет след,
Как в ветре дым и пена над пучиной.
Встань! Победи томленье, нет побед,
Запретных духу, если он не вянет,
Как эта плоть, которой он одет!
Еще длиннее лестница предстанет;[312]
Уйти от них — не в этом твой удел;[313]
И если слышишь, пусть душа воспрянет».
Тогда я встал; я показать хотел,
Что я дышу свободней, чем на деле,
И молвил так: «Идем, я бодр и смел!»
Мы гребнем взяли путь; еще тяжеле,
Обрывистый, крутой, в обломках скал,
Он был, чем тот, каким мы шли доселе.
Чтоб скрыть усталость, я не умолкал;
Вдруг голос из расселины раздался,
Который даже не как речь звучал.
Слов я понять не мог, хотя взобрался
На горб моста, изогнутого там;
Но говоривший как бы удалялся.
Я наклонился, но живым глазам
Достигнуть дна мешала тьма густая;
И я: «Учитель, сделай так, чтоб нам
Сойти на вал, и станем возле края;
Я слушаю, но смысла не пойму,
И ничего не вижу, взор склоняя».
И он: «Мой отклик слову твоему —
Свершить; когда желанье справедливо,
То надо молча следовать ему».
Мы с моста вниз сошли неторопливо,
Где он с восьмым смыкается кольцом,
И тут весь ров открылся мне с обрыва.
И я внутри увидел страшный ком
Змей, и так много разных было видно,
Что стынет кровь, чуть вспомяну о нем.
Ливийской степи было бы завидно:
Пусть кенхр, и амфисбена, и фарей
Плодятся в ней, и якул, и ехидна, —
Там нет ни стольких гадов, ни лютей,[314]
Хотя бы все владенья эфиопа
И берег Чермных вод прибавить к ней.
Средь этого чудовищного скопа
Нагой народ,[315]мечась, ни уголка
Не ждал, чтоб скрыться, ни гелиотропа[316].
Скрутив им руки за спиной, бока
Хвостом и головой пронзали змеи,
Чтоб спереди связать концы клубка.
Вдруг к одному, — он был нам всех виднее, —
Метнулся змей и впился, как копье,
В то место, где сращенье плеч и шеи.
Быстрей, чем I начертишь или О,
Он[317]вспыхнул, и сгорел, и в пепел свился,
И тело, рухнув, утерял свое.
Когда он так упал и развалился,
Прах вновь сомкнулся воедино сам
И в прежнее обличье возвратился.
Так ведомо великим мудрецам,
Что гибнет Феникс, чтоб восстать, как новый,
Когда подходит к пятистам годам.
Не травы — корм его, не сок плодовый,
Но ладанные слезы и амом,
А нард и мирра — смертные покровы.[318]
Как тот, кто падает, к земле влеком,
Он сам не знает — демонскою силой
Иль запруженьем, властным над умом,
И, встав, кругом обводит взгляд застылый,
Еще в себя от муки не придя,
И вздох, взирая, издает унылый, —
Таков был грешник, вставший погодя.[319]
О божья мощь, сколь праведный ты мститель,
Когда вот так сражаешь, не щадя!
Кто он такой, его спросил учитель.
И тот: «Я из Тосканы в этот лог
Недавно сверзился. Я был любитель
Жить по-скотски, а по-людски не мог,
Да мулом был и впрямь; я — Ванни Фуччи,[320]
Зверь[321], из Пистойи, лучшей из берлог».
И я вождю: «Пусть подождет у кручи;
Спроси, за что он спихнут в этот ров;
Ведь он же был кровавый и кипучий».[322]
Тот, услыхав и отвечать готов,
Свое лицо и дух ко мне направил
И от дурного срама стал багров.
«Гораздо мне больнее, — он добавил, —
Что ты меня в такой беде застал,
Чем было в миг, когда я жизнь оставил.
Я исполняю то, что ты желал:
Я так глубоко брошен в яму эту
За то, что утварь в ризнице украл.
Тогда другой был привлечен к ответу.
Но чтобы ты свиданию со мной
Не радовался, если выйдешь к свету,
То слушай весть и шире слух открой:
Сперва в Пистойе сила Черных сгинет,[323]
Потом Фьоренца обновит свой строй.[324]
Марс от долины Магры пар надвинет,
Повитый мглою облачных пелен,
И на поля Пиценские низринет,
И будет бой жесток и разъярен;
Но он туман размечет своевольно,
И каждый Белый будет сокрушен.[325]
Я так сказал, чтоб ты терзался больно!»[326]

Песнь двадцать пятая
Круг восьмой — Седьмой ров (окончание)
По окончаньи речи, вскинув руки
И выпятив два кукиша, злодей
Воскликнул так: «На, боже, обе штуки!»
С тех самых пор и стал я другом змей:
Одна из них ему гортань обвила,
Как будто говоря: «Молчи, не смей!»,
Другая — руки, и кругом скрутила,
Так туго затянув клубок узла,
Что всякая из них исчезла сила.
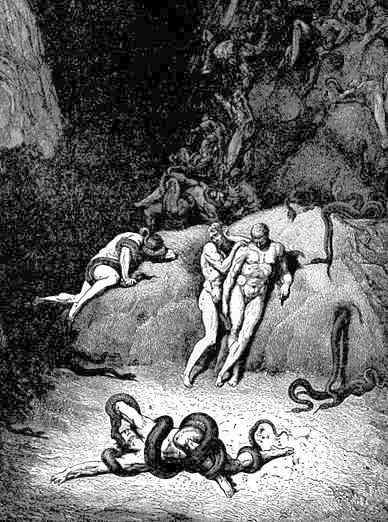
Сгори, Пистойя, истребись дотла!
Такой, как ты, существовать не надо!
Ты свой же корень в скверне превзошла![327]
Мне ни в одном из темных кругов Ада
Строптивей богу дух не представал,
Ни тот, кто в Фивах пал с вершины града.[328]
Он, не сказав ни слова, побежал;
И видел я, как следом осерчало
Скакал кентавр, крича: «Где, где бахвал?»
Так много змей в Маремме[329]не бывало,
Сколькими круп его был оплетен
Дотуда, где наш облик[330]брал начало.
А над затылком нависал дракон,
Ему налегший на плечи, крылатый,
Которым каждый встречный опален.
«Ты видишь Кака, — мне сказал вожатый. —
Немало крови от него лилось,
Где Авентин вознес крутые скаты.
Он с братьями теперь шагает врозь[331]
За то, что обобрал не без оглядки
Большое стадо, что вблизи паслось.
Но не дал Геркулес ему повадки
И палицей отстукал до ста раз,
Хоть тот был мертв на первом же десятке».[332]
Пока о проскакавшем шел рассказ,
Три духа[333]собрались внизу; едва ли
Заметил бы их кто-нибудь из нас,
Вождь или я, но снизу закричали:
«Вы кто?» Тогда наш разговор затих,
И мы пришедших молча озирали.
Я их не знал; но тут один из них
Спросил, и я по этому вопросу
Догадываться мог об остальных:
«А что же Чанфа не пришел к утесу?»
И я, чтоб вождь прислушался к нему,
От подбородка палец поднял к носу.
Не диво, если слову моему,
Читатель, ты поверишь неохотно:
Мне, видевшему, чудно самому.
Едва я оглянул их мимолетно,
Взметнулся шестиногий змей,[334]внаскок
Облапил одного и стиснул плотно.
Зажав ему бока меж средних ног,
Передними он в плечи уцепился
И вгрызся духу в каждую из щек;
А задними за ляжки ухватился
И между них ему просунул хвост,
Который кверху вдоль спины извился.
Плющ, дереву опутав мощный рост,
Не так его глушит, как зверь висячий
Чужое тело обмотал взахлест.
И оба слиплись, точно воск горячий,
И смешиваться начал цвет их тел,
Окрашенных теперь уже иначе,
Как если бы бумажный лист горел
И бурый цвет распространялся в зное,
Еще не черен и уже не бел.
«Увы, Аньель, да что с тобой такое? —
Кричали, глядя, остальные два. —
Смотри, уже ты ни один, ни двое».
Меж тем единой стала голова,
И смесь двух лиц явилась перед нами,
Где прежние мерещились едва.
Четыре отрасли[335]— двумя руками,
А бедра, ноги, и живот, и грудь
Невиданными сделались частями.
Все бывшее в одну смесилось муть;
И жуткий образ медленной походкой,
Ничто и двое, продолжал свой путь.
Как ящерица под широкой плеткой
Палящих дней, меняя тын, мелькнет
Через дорогу молнией короткой,
Так, двум другим кидаясь на живот,
Мелькнул змееныш лютый,[336]желто-черный,
Как шарик перца; и туда, где плод
Еще в утробе влагой жизнетворной
Питается, ужалил одного;[337]
Потом скользнул к его ногам, проворный.
Пронзенный не промолвил ничего
И лишь зевнул, как бы от сна совея
Иль словно лихорадило его.
Змей смотрит на него, а он — на змея;
Тот — язвой, этот — ртом пускают дым,
И дым смыкает гада и злодея.
Лукан да смолкнет там, где назван им
Злосчастливый Сабелл или Насидий,
И да внимает замыслам моим.[338]
Пусть Кадма с Аретузой пел Овидий
И этого — змеей, а ту — ручьем
Измыслил обратить, — я не в обиде:[339]
Два естества, вот так, к лицу лицом,
Друг в друга он не претворял телесно,
Заставив их меняться веществом.
У этих превращенье шло совместно:
Змееныш хвост, как вилку, расколол,
А раненый стопы содвинул тесно.
Он голени и бедра плотно свел,
И, самый след сращенья уничтожа,
Они сомкнулись в нераздельный ствол.
У змея вилка делалась похожа
На гибнущее там, и здесь мягка,
А там корява становилась кожа.
Суставы рук вошли до кулака
Под мышки, между тем как удлинялись
Коротенькие лапки у зверька.
Две задние конечности смотались
В тот член, который человек таит,
А у бедняги два образовались.
Покамест дымом каждый был повит
И новым цветом начал облекаться,
Тут — облысев, там — волосом покрыт, —
Один успел упасть, другой — подняться,
Но луч бесчестных глаз был так же прям,
И в нем их морды начали меняться.
Стоявший растянул лицо к вискам,
И то, что лишнего туда наплыло,
Пошло от щек на вещество ушам.
А то, что не сползло назад, застыло
Комком, откуда ноздри отросли
И вздулись губы, сколько надо было.
Лежавший рыло вытянул в пыли,
А уши, убывая еле зримо,
Как рожки у улитки, внутрь ушли.
Язык, когда-то росший неделимо
И бойкий, треснул надвое, а тот,
Двойной, стянулся, — и не стало дыма.
Душа в обличье гадины ползет