А враги уже расселялись по хатам, выгоняя на улицу хозяев: резали кур, убивали поросят, ломали плетни и заборы, топили хозяйские печи. В новой, только что отстроенной колхозной конюшне клети для жеребят были разбиты в щепы; в раскрытые настежь двери с грохотом въезжали нагруженные машины; новая молотилка, недавно приобретённая колхозом, была поломана и завалена всяким хламом.
В селе воцарился ужас, но люди не смирялись. Они прятали и уничтожали своё добро, чтобы оно не досталось врагам. То из одного, то из другого двора вырывались истошный плач и крики… Кого-то тяжко били, отнимали добро, выбрасывали из хаты. Люди бежали на этот крик, натыкались на дула автоматов и молча пятились назад, хватая своих детей… Люди постигли ужас фашистской неволи. Село как будто оглохло, онемело, затаилось в страшной, непримиримой ненависти к врагу, и ненависть эта ещё больше чувствовалась в молчании, чем в криках протеста и боли.
У Степана Ильича не поставили солдат. В тот день, когда к нему явились фашистские солдаты, баба Ивга жарко затопила валежником печь и наглухо закрыла трубу. Копоть и угар выгнали солдат – они с руганью ушли и больше не возвращались. Зато рядом просторное помещение сельрады кишело гитлеровцами. Вечерами они сидели на крыльце – там, где раньше, мирно раскуривая свои трубки, любили посиживать колхозные деды. Чужой язык, чужие песни раздавались в селе…
Через несколько дней сарай опустел. Фашисты угнали арестованных неизвестно куда. Весь день ребята метались по селу, шныряли между немецкими повозками, искали на дороге следы. Страшное уныние овладело ребятами; сбившись в кучу, они сидели на неубранных сенниках, вспоминая оставленных дома родителей, погибших девочек, Митю… и уже не скрывали друг от друга отчаяния и слёз:
– Никого, никого у нас не осталось!..
Васёк на глазах у товарищей крепился изо всех сил. Он чувствовал, что с потерей Мити ответственность за ребят легла на него как на командира отряда. Он старался казаться бодрым, выходил на разведку с Мазиным и Русаковым, расспрашивал людей, но Митя как в воду канул. Нигде не было слышно об арестованных. Васёк не знал, что предпринять, как жить дальше, где искать Митю. Одинокий, не смея выказать перед ребятами своё отчаяние, он жался к Степану Ильичу. Степан Ильич, мрачный и озабоченный, с беглой лаской клал ему на голову свою большую руку и говорил:
– От меня ни на шаг, хлопче! Держи крепче своих ребят и сам не унывай!..
…Осторожно оглянувшись, Васёк перелезает через плетень и идёт огородами.
На сухой тропке валяются надгрызенные огурцы, разбитые недозрелые тыквы. Длинные гряды истоптаны, торчат зелёные палки оборванных подсолнухов.
Молодица в тёмной старушечьей кофте крадучись собирает в сито горох и зелёные помидоры. Она срывает их с куста прямо гроздьями, пугливо глядя по сторонам. Когда Васёк проходит мимо, она приподнимается, суёт ему в руки сладкие зелёные стручки, ласково кивает головой и, завидев группу солдат, бежит к своей хате. Васёк прячется в кустах и пережидает, пока пройдут гитлеровцы.
За околицей, на опушке леса, шумят ветвистые дубы, белеют тонкие берёзы, сбегают по косогору вниз молодые ёлки. В густой траве желтеют свежесрезанные сосны; прямые и строгие, они лежат вытянувшись, как мертвецы. По золотой чешуе ползают большие муравьи, прыгают кузнечики. Из-под сосен, смятые тяжестью стволов, выбиваются на волю поблёкшие колокольчики, ромашки, лесная гвоздика… Жарко припекает солнце. С мёртвых деревьев тяжёлыми слезами капает на землю смола.
«Митя… Может быть, фашисты расстреляли его где-нибудь в овраге!»
Васёк бросается в траву и горько плачет.
Зелёный мох и белые невестины цветочки ласково вытирают мокрые щёки мальчика; ветер силится приподнять его с земли, треплет за рукав, заглядывает в лицо; муравьи щекочут пальцы.
Негде поплакать командиру отряда – Ваську Трубачёву. Никто не должен видеть его слёз.
От зелёной травы мутно и зелено в глазах. Тихо шелестят рядом рыжие чешуйки сосны. Ваську кажется, что мягкие рыжие усы щекочут ему шею и подбородок…
«Папка, папка…»
Чужой говор настигает его и здесь. Он вскакивает на ноги, настораживается. Группа солдат проходит между деревьями. Васёк видит двух офицеров. На боку у одного из них висит полевая сумка, другой держит бинокль. Они идут к опушке леса. Васёк долго следит за ними глазами. На опушке стоят орудия, они завалены срубленными ёлками. Офицеры что-то говорят солдатам. Внизу, по шоссе, на длинных грузовиках подвозятся ещё какие-то орудия. Васёк тихонько ползёт, прячась за куста ми. Что делают тут враги? Может, они собираются в бой? Васёк сжимает кулаки. В селе Ярыжки тоже хозяйничают фашисты. И железнодорожная станция в Жуковке занята ими…
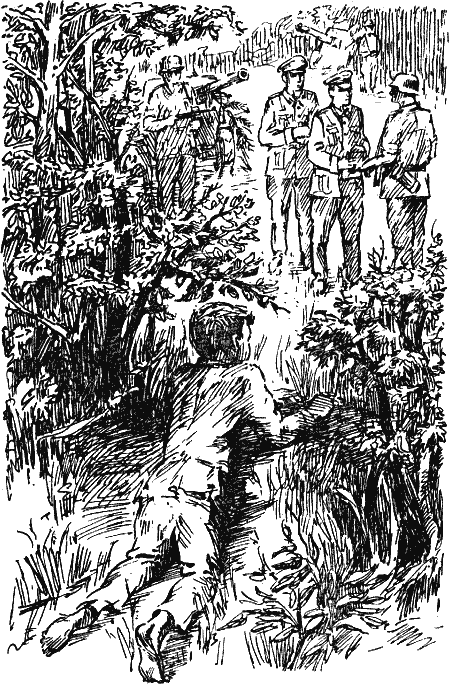
Васёк снова думает о своих ребятах. Теперь они все живут отдельно: Мазин и Русаков – у колхозницы Макитрючки, он, Васёк, Одинцов и Саша – у Степана Ильича, а Сева – у деда Михайла. Это баба Ивга разделила их по хатам, а Сева сам попросился к деду Михайлу: ему жалко деда, потому что Генка со своим конём исчез, и никто не знает, где он. Где-нибудь в лесу лежит бедный Генка. А рядом с ним, может быть, и верный товарищ его – Гнедой.
Васёк поднимается. Ребята, наверно, уже ждут его.
Они часто собираются в Слепом овражке, за огородами. В этом овражке под изумрудной травой – вязкое, засасывающее болото. Ребята там усаживаются на большой полузатонувшей коряге. Толстые корни её торчат во все стороны.
У каждого из ребят здесь есть своё место. Сегодня место Васька займёт Одинцов, потому что Васёк идёт на пасеку. У Матвеича не стоят фашисты. В цветущем закутке всё по-прежнему, только там уже не гудят пчёлы. В саду сложены пустые ульи. Матвеич говорит, что все они прохудились и лежат здесь для починки. Васёк не спрашивает – он понимает, что Матвеич не хочет кормить мёдом врагов и потому разорил свою пасеку. Оба старика больше сидят теперь в хате. А хата всегда на запоре. Васёк идёт прямиком через скошенное поле, проходит под тополями, перелезает через плетень.
Глава 24
Генка и Гнедой
Генка бродил по самым глухим зарослям леса, скрывая Гнедка. Днём он сторожил его, прислушиваясь к каждому шороху; ночью, припав к шее коня, обливал слезами его морду, гладил его и шептал ему в чутко насторожённое ухо:
– Для чего я тебя воспитывал? Для лихого командира, на геройские дела!
Конь смотрел на него умными карими глазами. Вспыхивали в них, как слёзы, золотые искорки. Чёрными мягкими губами касался он мокрой Генкиной щеки, вздыхал, раздувая ноздри, и тихонько ржал, чуя горе хозяина.
Мигали в траве зелёные светляки, прятались в тёмных зарослях лесные цветы, молчали птицы. Сквозь верхушки деревьев просвечивало тёмно-синее небо. Набегал ночной ветер, шевелил влажные от росы листья; просыпались совы, и в лесу становилось неспокойно.
Генке слышались шорохи и шёпот, треск сучьев. Он пугливо озирался и, ведя коня за поводок, спускался с ним в овраг. Прятал его в густых камышах около реки.
Закрутив на руке длинный поводок, Генка садился на берег и смотрел на воду. В речной воде уплывали вместе с течением облака и звёзды. А в глазах у Генки мчались по волнам на боевых конях бесстрашные бойцы… Мчался впереди всех Гнедко, управлял им лихой командир; горела у него на шапке красная звезда, в поднятой руке сверкала острая шашка. В кучу врагов вреза́лся лихой командир, топтал их копытами верный конь…
Счастливая улыбка трогала Генкины губы.
Забывшись коротким сном, бессильно падал он головой в росистую траву, и во сне слышался ему тихий, пытливый голос деда:
«Може, и не побачимся мы с тобой, Генка, а?»
Яркие светлячки дедовых глаз с острой тоской смотрели на внука.
Генка крутил головой, съёживался в комочек:
«Може, и не побачимся, диду…»
Поднимались от влажной земли родные, знакомые запахи, склонялись над Генкой прибрежные травы, и предостерегающе шуршали высокие камыши:
«Берегись, Генка! Налетят фашисты – отнимут у тебя коня. Будет он врага на своей спине носить, копытами родные поля топтать!»
Заноет у Генки сердце, крепче сожмёт он в руке поводок:
«Не будет мой Гнедко под ворогом ходить! Ускачем мы с ним в тёмные леса, в глухие чащи…»
Качаются над водой строгие камыши:
«Зачем прятаться боевому коню в лесу от врага? Кто ж раненого бойца с поля битвы вынесет? Вставай, Генка, ступай на широкий шлях – не проедет ли мимо лихой командир, не попросит ли у тебя боевого коня…»
Бежит сон от Генки. Встряхнувшись, вскакивает Генка на ноги, обнимает за шею Гнедка.
Что, как правда отнимут коня фашисты? Не боевая слава, а позор покроет голову его хозяина.
Садится Генка на своего коня, сжимает его крутые бока босыми пятками и, пригнувшись к мягкой гриве, стрелой летит на широкий шлях.
Осветит месяц тёмную холёную шерсть коня, застучат по камням его звонкие копыта. Натянет поводья Генка, встанет на широкой белой дороге и ждёт – не проедет ли мимо лихой командир, не попросит ли у него боевого коня. Долго стоят конь и всадник, облитые светом месяца, не знают, куда повернуть. Задымится над ними небо, завоют вражеские моторы, задрожит от ударов земля. Насторожит Гнедко уши, повернёт к хозяину тонкую морду; не двинется с места Генка… Ждёт!
Глава 25
Васёк Трубачёв
Бобик звонким лаем извещает хозяев о госте. Матвеич открывает дверь, глядит на дорожку:
– А, хлопчик! Здорово, командир!
Из окошка высовывается серебряная голова Николая Григорьевича. Глаза старика так похожи на глаза Сергея Николаевича, что Васёк, поздоровавшись с Матвеичем, радостно бежит к окошку.
– Иди, иди, пионер! Что давно не был у нас? Как там дела, а? – Старик долго держит в своих ладонях твёрдую, загорелую руку мальчика. – Как там команда твоя? Живы, здоровы?.. Угости-ка медком его, Матвеич!
Васёк проходит в кухню.
Матвеич наливает ему в миску янтарный мёд, кладёт кусок хлеба:
– Ну, как в селе? Рассказывай, что знаешь! Васёк макает в миску хлеб и рассказывает, как хозяйничают в селе гитлеровцы, как они ходят по хатам и берут всё, что им вздумается.
– На людей смотрят хуже, чем на собак.
– Ну, а люди что? – спрашивает Иван Матвеич.
– А что люди? Молчат…
Васёк опускает голову, Матвеич набивает трубку и ждёт. Николай Григорьевич глубоко вздыхает.
– Ну, а Степан Ильич что? – осторожно спрашивает он.
– Дядя Степан у вас мёду просит, говорит – чай пить не с чем.
Васёк густо краснеет – ему неловко и стыдно за Степана Ильича. Но Матвеич оживляется:
– Мёду просит? Чай пить не с чем? – Он смотрит на Николая Григорьевича, подмигивает ему и потирает свои большие руки. – Вот сластёна! Скажи пожалуйста, мёду ему захотелось!
Васёк пробует выгородить Степана Ильича:
– Да это он так… Пошутил, может…
– Конечно, пошутил, – серьёзно подтверждает Николай Григорьевич, прихлёбывая с блюдечка чай.
Матвеич стучит по столу толстыми пальцами, морщит лоб:
– Что ж человека обижать! Ты скажи ему так: мёду нет, пришлю сахару. Скажешь?
– Скажу.
Разговор затихает. Ваську хочется спросить, не слыхал ли Матвеич чего-нибудь о тех арестованных, которых увели из села гитлеровцы, но Матвеич вдруг ласково треплет его за чуб:
– Ну, а ты фашистов не боишься, хлопчик? Ведь их, верно, полное село нагнали, а?
– Много. По хатам солдаты стоят, а в школе офицеры и генералы ихние; там штаб.
– Хе-хе-хе, «штаб»! Да это тебе с перепугу показалось, – вмешивается Николай Григорьевич. – Полтора человека – это не штаб!.. Ну, сколько ты там генералов видел?
Васёк обижен:
– Мне на их генералов наплевать. Я их не боюсь. А что видел, то и говорю. И ребята наши знают. Севка Малютин у деда Михайла живёт – всех видит!
Матвеич грузно ворочается, жадно сосёт трубку. Николай Григорьевич смотрит на Васька внимательными, серьёзными глазами:
– Ты не обижайся. Мы с Матвеичем сидим тут, как в берлоге, ничего не знаем. Ты бы приходил почаще – нам веселее будет: всё что-нибудь да услышим от тебя.
– Я ещё не то знаю! – бодрится Васёк. – Я сегодня на опушке леса орудия видел! Много их там фашисты навезли. И ёлками завалили, думают – не видно…
– Да что ты! – удивляется Николай Григорьевич, поглядывая на Матвеича. – В каком же это месте?
– Да около леса, на опушке, где молодые ёлки. Матвеич отодвигает миску с мёдом, ловит пчелу и, осторожно держа её двумя пальцами за крылья, выпускает в окно. Долго глядит ей вслед, потом поворачивается к Ваську:
– Зоркий ты, хлопчик. Мабуть, и посчитал их для интересу?
– Кого – их?
– Да орудья-то фашистские, – небрежно говорит Матвеич.
– Нет, я не считал…
Живые глаза Матвеича внимательно разглядывают пионера Васька Трубачёва.
– А ты посчитай!
– Я узнаю! Я всё узнаю! – быстро говорит Васёк. – И про штаб и про орудия. Мы с ребятами…
– Ну-ну! – прерывает его Матвеич. – Не кажи гоп, поки не перескочишь! Загребут тебя фашисты с твоими ребятами да как всыплют вам хорошенько, чтоб не лазили где не надо. Да ещё нас, стариков, на берёзе повесят – тоже, чтоб не интересовались. – Матвеич кладёт руку на голову Трубачёва: – Чуешь, хлопчик, что я говорю?
– Не загребут нас фашисты! – волнуясь, шепчет Васёк. – А ребятам я скажу, что мне так… самому интересно.
– Ну, действуй, – говорит Матвеич.
* * *
Торжественно, словно в почётном карауле, стоят ряды высоких тополей. Идёт по дороге пионер Васёк Трубачёв. Не просто идёт – высоко поднял голову, словно вырос за один час, покрепчал, силы набрался; смело шагает. Несёт в своём сердце пионер первое важное задание; обуревают его вихрастую мальчишескую голову смелые и отчаянные планы.
Отныне крепко и нерушимо будет хранить он военную тайну, доверенную ему взрослыми партийными людьми. Бежит под босыми ногами пионера тропинка, бежит, перегоняет, забегает вперёд, остаётся позади; низко кланяется, мягко стелется перед ним трава; гладят по плечам кусты, шумят навстречу деревья… Шепчутся с белками сосновые ветки, и поют птицы о том, что идёт пионер, в первый раз получивший важное боевое задание. Вся земля, нагретая солнцем, ложится под ноги Трубачёву; даже скошенное, колючее поле не саднит его босых ног.
Родная земля! На всё готов для неё младший из верных сыновей – пионер Васёк Трубачёв!
Глава 26
Р. М. З. С
Каждый день Мазин и Русаков рыскали по окрестностям в надежде найти какие-нибудь следы Мити. По разговорам взрослых и по всем предположениям было очевидно, что арестованных увели из села. Может быть, их заставили работать…
– Митя не будет работать на фашистов! – говорил Трубачёв. – Он или убежит, или… – Он не договаривал, но ребята понимали, что значит это «или».
– У него комсомольский билет с собой, – тихо добавлял Одинцов.
Мазин хмурился, вздыхал:
– Пошли, Петька!
На дороге обнаружить какие-нибудь следы группы арестованных было невозможно. Тут шли и ехали люди, мчались мотоциклы, двигались целые колонны гитлеровцев. Мазин подробно обследовал тропинки около леса, оглядел кусты и деревья: он искал какой-нибудь знак, который мог бы оставить Митя.
Мальчики возвращались поздно, усталые, хмурые.
Ребята ждали их в Слепом овражке. Трубачёв беспокоился, выходил навстречу и, взглянув на их лица, ни о чём не спрашивал.
Сегодня Мазин рано поднял Петьку. Макитрючка отрезала им по куску сала. Вздыхая, смотрела, как они прячут за пазуху хлеб, и, бренча заслонкой, ругала фашистов. Баба Макитрючка ругала фашистов с утра до вечера. Падала ли у неё из рук миска, пригорало ли в печи молоко – Макитрючка проклинала фашистов самыми страшными проклятиями.
– А щоб вы сгорели, проклятые! Щоб вам руки-ноги повыкручивало, очи повылазили! – кричала она, подбирая разбитые черепки или вытаскивая из печи пригоревшее молоко.
Гитлеровцы ловили по дворам кур, заходили в хаты, требовали сала, яиц. Макитрючка в первый же день прихода фашистов порезала своих кур и усиленно кормила ими Мазина и Русакова:
– Ешьте, хлопцы! Я над своими курами сама хозяйка. Кого хочу – того и угощу.
Ощипанные перья и косточки ребята относили на огород и зарывали в землю.
– Матка, кура есть? – заглядывая в хату, кричал солдат.
Макитрючка, собрав в упрямые складочки рот, смотрела на него серозелеными злыми глазами.
– Но-но… кура давай! – наступал на неё гитлеровец.
Макитрючка молчала до последней возможности, потом разражалась громкими жалобами:
– Откуда у меня куры? Где я их возьму? Всю меня обобрали, до ниточки! Последнего цыплёнка со двора унесли. Нету, нету! Хоть весь дом обыщи – ни пёрышка не найдёшь!
Она выбегала во двор, показывала пустой курятник. Мазин и Русаков с тревогой и любопытством смотрели в окно.
– Ось, диты мои, як с ними надо поступать! – удовлетворённо говорила Макитрючка, когда солдат уходил. – Своё добро переведу, а им не дам!
К Мазину и Русакову Макитрючка относилась хорошо, ничего для них не жалела и, зная, что они ходят по лесу в поисках Мити, давала им с собой на дорогу хлеб и сало. Сегодня, когда ребята объявили ей, что уходят надолго, она собрала ещё один узелок и дала Мазину:
– На, хлопчик… Може, найдётся ваш Митя, може, ще хто из наших голодный по лесу блукае або раненый лежит…
План у Мазина был простой. Ему пришло в голову, что если Мите удалось убежать от гитлеровцев, то голод приведёт его на то место, где когда-то был раскинут их лагерь. Митя знает, что в землянке, которую они вырыли, сложены продукты – там есть консервы и мука. (По всем расчётам Мазина выходило, что если Митя скитается по лесу, то уж обязательно постарается найти место бывшей лагерной стоянки.) Посоветовавшись с Васьком и обдумав ночью свой план, Мазин едва дождался рассвета. Разбудил Петьку…
От реки узенькая тропка выводила на шоссе. Мокрая осока резала ноги. От влажного тумана одежда пропиталась сыростью. Кусты обдавали холодными брызгами. В остывших за ночь берегах неприютно плескалась река. Мазин торопился миновать село, перейти шоссе и укрыться в лесу. Он боялся встречи с фашистами. Петька почти бежал за товарищем, натянув на голову курточку.
Внезапно за густым ивняком раздался сердитый окрик:
– Вэг! Вэг!
Мазин быстро присел, дёрнул за ноги Петьку. Оба мальчика, скрывшись за кустами, затаили дыхание.
На берегу стоял дряхлый дед в серых штанах и холщовой рубахе, завязанной шнурочком у ворота. Он держал удочку и ведёрко с рыбой. Гитлеровец толкал его прикладом в спину:
– Вэг! Вэг!
Старик, согнувшись, прошёл мимо мальчиков. Голова у него тряслась.
– Наша земля, наша река… – бормотал он, разводя руками.
Когда патруль скрылся, Мазин поднял Петьку. Мальчики пробрались к шоссе и нырнули в лес.
Над их головами, взметнув рыжим хвостом, прыгнула с сосны на сосну белка. Какая-то сварливая птица долго провожала мальчиков, перепархивая с ветки на ветку. Она так крикливо отчитывала их, что перебудила всех птиц. В лесу начинался день. Брызнуло солнце, кусты ожили, зашевелились. Колокольчики, полные свежей, непролитой росы, засинели среди дикого боярышника и высоких колючек с сиреневыми шапками. Около старых, мшистых пней выглянула из травы крупная земляника. Мальчики вволю полакомились; от ягод пальцы у них покраснели и душисто пахли земляничным соком.
Наступил полдень. Ребята выбрали тенистое местечко. Защищённое со всех сторон густым орешником, оно было похоже на беседку. Мазин разложил на платке хлеб, снял с пояса фляжку с водой. Оба с жадностью накинулись на еду. На платок полезли муравьи. Большой рыжий муравей ухватил крошку хлеба и пятился задом, держа её в цепких лапках. Мазин хотел сбить муравья щелчком, но Петька не дал.
– Ну что тебе, жалко? Силу свою показать хочешь? – рассердился он на товарища. – Пускай тащит!
– «Пускай»! – проворчал Мазин, наблюдая за муравьём. Я ихнюю повадку знаю – он сейчас весь муравейник на помощь приведёт…
К муравью действительно приползли на помощь такие же рыжие большие муравьи; они ухватились за хлебную крошку и тащили её в разные стороны. Мальчики заинтересовались муравьями. Неподалёку оказался муравейник.
– Ишь, трудятся! – с уважением сказал Мазин и, подержав над муравейником ладонь, сунул её Петьке: – Понюхай. Муравьиный спирт вырабатывают…
Но Петька уже забыл о муравьях. Он думал о чём-то своём, обхватив руками голые коленки и часто вздыхая.
– Чего это ты? – покосился на него Мазин.
– Ничего… Я думаю, Мазин… как бы не умерла моя мама…
Петька шмыгнул носом. Мазин протянул ему серую тряпку – бывший носовой платок.
– Высморкайся, – разрешил он. Потом, помолчав, спросил: – А чего же это она так, с бухты-барахты, помрёт вдруг?
– А первая моя мама отчего умерла?
– Не знаю.
– Так и эта может умереть… Будет ждать, ждать… – Петька снова высморкался и шёпотом добавил: – А потом умрёт…
Мазин вдруг вспомнил свою маленькую комнатку и больную мать с повязанной полотенцем головой.
– Эх, жизнь! – тоскливо протянул он. – Плохо быть семейным человеком, Петька…
Петька, услышав в его голосе сочувствие, заплакал.
Мазин сморщил лоб, выпятил губы и уставился на ореховый куст. Потом опустил глаза, одним щелчком сбил с платка муравьёв и встал.
– Враги кругом… война… а мы за мамочкины юбки хватаемся! – сердито сказал он. – Здоровые парни… нам воевать пора!
Петька взмахнул длинными ресницами, мокрые глаза его заблестели.
– Воевать, Мазин?
– А что же, плакать? – жёстко усмехнулся Мазин.
Петька вцепился в его плечо и лихорадочно зашептал:
– Надо было тогда… с Красной Армией уйти… я говорил…
– А товарищей бросить?
– Не бросить, а просто уйти…
Мазин покачал головой, задумался. Петька выжидающе смотрел на него:
– Мазин…
– Надо оружие достать. И всем отрядом – в бой! – сказал Мазин, раздувая ноздри.
Где-то хрустнула ветка. По траве, вытягивая вперёд острую мордочку, пробежал ёжик. Мазин встал:
– Ну, пошли скорей!
Петька завязал узелок, надел его на палку.
Шли долго. На повороте, где когда-то Сергей Николаевич ждал ребят, был врыт столб. На столбе была прибита доска с надписью на чужом языке. Мазин схватил увесистый булыжник, оглянулся. На шоссе было пусто. Петька тоже поднял камень. Вдвоём они сшибли доску на землю и потоптали её ногами:
– Наша земля, наша дорога!..
Потом, взволнованные и довольные этим происшествием, углубились в лес. Шли по памяти и по оставленным когда-то дорожным знакам. У обоих болели ноги, но, чем ближе они подвигались к лагерной стоянке, тем больше ускоряли шаг. Обоими владела одна мечта – найти какой-нибудь след Митиного пребывания в лагере.
– Эх, жизнь! – время от времени бросал на ходу Мазин.
В папоротнике желтели лисички. Под старыми дубами крепко сидели на толстых ножках боровики; под молодыми сосёнками ютились маслята, к их коричневым шапкам лепились прошлогодние листья и сосновые иглы. Мазин нагнулся и поднял разломанный пополам гриб; другой гриб, рядом, был раздроблён на мелкие куски. Мальчики одновременно наклонились над ним, стукнувшись головами.
– Копыто лошади, – прошептал Мазин.
Петька, ползая на четвереньках, указал товарищу на глубокий, вдавленный след:
– Давно проехал – в ямку иглы нападали.
Мальчики медленно передвигались с места на место. Следы привели их к кусту рябины. Ветки её с одной стороны были сильно примяты.
Мазин указал на коротко выщипанную вокруг траву:
– Лошадь паслась…
– Генка! – радостно шепнул Петька.
– А может, фашист?
Тревога сжала сердца мальчиков. Перебегая от дерева дереву, они осторожно подошли к лагерной полянке. Там было тихо и безлюдно. Чернело обожжённое костром место, где Синицына варила кашу. Валялись обрубленные ребятами колья Мазин и Русаков долго не могли найти яму, где были сложены продукты и вещи. Замаскированная дёрном, она была почти незаметна среди зелени. Наконец Петька вспомнил, что немного влево от этого места он воткнул кустик орешника. Кустик, уже засохший и сморщенный, был на месте. Мазин приподнял край срезанного дёрна. Под ним забелела палатка. Мальчики лихорадочно считали продукты и вещи:
– Палатка одна, а было две… Консервов мало… хлеба нет!
– Аптечка… Ящик с аптечкой! Я сам его клал. Вот тут клал! – захлёбываясь, шептал Петька. – И письма в клеёнке, которое Сергею Николаевичу оставили, тоже нет. Одинцов его над костром вешал, я сам видел!
У Мазина беспокойно бегали глаза, он что-то искал: перебрасывал вещи, вытаскивал посуду, заглядывал на дно.
– Это кто-то другой был, – мрачно заявил он на вопросительный взгляд Петьки.
Усталость и печаль овладели обоими. Мазин долго сидел задумавшись над раскрытой ямой. Митя оставил бы ребятам письмо или хоть какой-нибудь знак, что он жив. Мазин встал, обследовал поляну, спустился к реке.
Наступили сумерки. Петьке стало страшно. Он сел, пристально вглядываясь в темнеющий лес. С берега донёсся до него торжествующий крик:
– Сюда! Сюда!
Мальчик стрелой понёсся на голос товарища. Неожиданное зрелище предстало перед его глазами. Мазин плясал танец диких, высоко вскидывая ноги и выкрикивая одни и те же слова:
– Бинточки! Бинточки! Тра-ля-ля! Тра-ля-ля-ля!..
В руках его болтались длинные серые бинты из полотна бабы Ивги. Петька мгновенно захватил себе другой конец и тоже пустился в пляс:
– Митины бинточки! Тра-ля-ля!
На берегу валялся пустой ящик из-под аптечки.
Через несколько минут, выкупавшись в реке, голодные, но счастливые, ребята уселись на берегу. Незаметно подкрался вечер. Костёр разводить боялись. Петька принёс банку консервов, но Мазин решительно велел положить банку обратно.
– Это Митино, а ты берёшь! Ведь он где-то в лесу блуждает, у него весь запас тут, – с укором сказал он.
Петька смутился и сейчас же предложил:
– Мазин, останемся тут навсегда! Он придёт – а мы тут!
Оба замечтались о встрече с Митей. Мазин глядел в тёмное небо и, потягиваясь, радостно бормотал:
– Эх, жизнь!
Он представлял себе, какую счастливую весть принесут они с Петькой ребятам. И, словно угадывая его мысли, Петька добавил вслух:
– А Трубачёв-то! Трубачёв прямо с ума сойдёт от радости!
– Все с ума сойдут! А мы не сошли?
– Я сошёл! – радостно уверил Петька.
Лес уже не казался страшным: где-то тут, в этом лесу, бродил Митя…
Заснули неожиданно и так же неожиданно проснулись.
Тёмный вечер сменило ясное утро. Радость стала ещё больше, ещё значительнее. Митя жив! Он где-то здесь – может быть, недалеко от них. Мазин решил пройти в глубь леса, а перво-наперво написать Мите письмо и замаскировать яму. Письмо писал Петька. Мазин, стоя над ним, диктовал, тщательно подбирая простые слова, чтобы не наделать грамматических ошибок:
– «Дорогой Митя! Ты жив, мы тоже живы. Нашли твои бинты и всё угадали. Мы живём там же. Слушаемся дядю Степана и Трубачёва тоже. Ты живи здесь, а то всюду фашисты. В Ярыжках фашисты и на станции Жуковка. Наши их бьют, а они всё лезут – Мазин вспомнил сшибленную доску с чужой надписью и продиктовал: – Мы тоже без дела не сидим и сидеть не будем».
Потом он задумался и, не зная, что ещё добавить, почесал затылок:
– Эх, жизнь!
Петька послюнил карандаш, записал последние слова и незаметно для Мазина поставил в углу четыре буквы: Р. М. З. С.
Положив письмо, они тщательно замаскировали яму и двинулись в лес.
– А Трубачёв-то! Ещё не знает, что Митя жив! – несколько раз повторяли мальчики, вспоминая Васька.
* * *
Но Васёк уже знал. В это утро в хате Степана Ильича неожиданно появился Генка. Он стоял у порога; армяк на нём был разорван, лицо осунулось, пожелтело, глаза лихорадочно блестели.
– Где конь? – тихо спросил его Степан Ильич.
Васёк Трубачёв, Саша и Коля Одинцов со страхом ждали ответа. Генка глубоко вздохнул, вытер грязной ладонью щёки:
– Отдал…
– Колхозного коня отдал? – Степан Ильич потемнел. Колхозного коня? Кому?!
Генка вскинул голову, сердито блеснул глазами:
– Мите!
Глава 27
Красный галстук
В Слепом овражке собрались все ребята. Были тут и Грицько и Ничипор. Пришли из Ярыжек Игнат с Федькой. Не хватало только Мазина с Русаковым. Они всё ещё не возвращались из своего путешествия. Перед сбором Игнат долго советовался о чём-то с Трубачёвым. Саша Булгаков, стоя на часах, с радостной улыбкой прислушивался к тому, что происходит в овражке. Там, на затонувшей коряге, удобно расположившись на толстых корнях, ребята слушали Генку. Генка сидел на самом почётном месте. Лицо у него было усталое, тёмная, обветренная кожа туго натянулась на скулах, на висках обозначились ямки, но карие глаза сияли.
– …Я чую – выстрел… один, другой… Я до Гнедка… А тут… Митя ваш из кущей як выскочит! Рубаха на нём порвана, задохнулся весь. – Генка обвёл ребят затуманившимся взглядом. – Ну и… отдал я ему коня…
– Ускакал он? – живо спросил Одинцов.
– Ускакал…
Малютин обнял Генку за шею:
– Митя хороший, он не обидит Гнедка! Ты не бойся, Генка.
Игнат встал. Растроганная улыбка лишала его обычной степенности, но голос звучал торжественно.
– Товарищи! – Он обвёл всех взглядом и остановился на Генке. – Я так думаю, товарищи: если человек сделал плохой поступок, то его надо наказать, и это будет правильно. Гена Наливайко, наш ученик и пионер, за плохой поступок против дисциплины лишился галстука… Галстук у него отобрали… – Игнат снова обвёл взглядом всех присутствующих. – Верно я говорю?