В. И. Икскуль
На одной из передвижных выставок, не помню какого года, появился превосходный, наделавший много шума и тотчас же приобретенный Третьяковым портрет баронессы Варвары Ивановны Икскуль фон‑Гильденбандт[209]. Портрет был написан во весь рост; баронесса Икскуль была изображена на нем в черной кружевной юбке, в ярко‑малиновой блузке, перехваченной по необыкновенно тонкой талии поясом; в малиновой же шляпке и с браслеткой на руке. Через черный вуаль просвечивало красивое, бледное, не юное, но моложавое лицо. Это было время самого расцвета таланта Репина. Все его живописные достоинства, как и недостатки, были налицо: свежая, молодая живопись лица, рук, блузки, золотых брелоков – и почти обычное отсутствие вкуса. Во всяком случае, мы тогда были в восхищении от нового шедевра Ильи Ефимовича, и я впервые по этому портрету узнал о существовании баронессы Икскуль. С тех пор чаще и чаще я стал встречаться с ее именем: оно то фигурировало вместе с какими‑нибудь филантропическими учреждениями, с женскими курсами, медицинскими, Бестужевскими, с концертами в пользу недостаточной молодежи, наряду с именами старушки Стасовой, Философовой, Марии Павловны Ярошенко, то с какими‑нибудь петербургскими сплетнями. Хорошее о ней переплеталось с «так себе»… но никто никогда не говорил о Варваре Ивановне Икскуль, что она глупа, – нет, ни в одном повествовании о ней не было такого. Быть может, не было и того, чтобы «повествователи» любили ее, но и при всей нелюбви их Варваре Ивановне не отказывали в уме, энергии, находчивости, в сильной воле. Варвара Ивановна Икскуль в те далекие времена принадлежала к либеральному лагерю российской интеллигенции, к либеральной части петербургской знати. Она была вдова нашего посланника в Риме, барона Икскуль фон Гильденбандт, человека гораздо старше ее, оставившего своей супруге какое‑то состояние, дом на Кирочной и баронский титул. До баронства Варвара Ивановна была мадам Глинка, у нее было два сына от первого брака: красавец‑кавалергард и моряк Гриша, довольно хилый молодой человек. Вот что было у Варвары Ивановны до баронского титула и особняка на Кирочной. Так жила да поживала в Питере баронесса Икскуль, пока не прославил ее своим портретом Илья Ефимович Репин. О ней заговорили громче; хорошее и худое о ней получило более яркую окраску. Говорили, что женские медицинские курсы, закрытые в конце царствования Александра II, вновь открылись в царствование Александра III благодаря умелому ходатайству баронессы Икскуль. Казалось, к суровому царю с такими делами, как открытие женских медицинских курсов, и подступить было немыслимо. Александр III – и женское образование… хм… и, однако, не кто другой, а Александр III дал милостивое соизволение на открытие таких курсов; он не только согласился на их открытие вновь, но дал землю под это полезное учреждение и обеспечил их существование на будущие времена. Дело было так: ревнители женского образования ломали себе головы, как подступиться с таким делом к неподатливому царю. И вот тут, как и на репинском портрете, выступила баронесса Икскуль особенно ярко. У ней в те времена, как и раньше, как в дни последующие, как во все времена ее жизни, – были большие связи… с так называемыми «нужными людьми», будь то мир придворный, военный или чиновный, ученый, мир художников, артистов. Везде баронесса Икскуль вовремя и умно заводила связи и ими блестяще пользовалась. Люди, жившие в 80‑е годы, знали или слышали о генерале Черевине, близком человеке к царю. Генерала Черевина, как Бову‑королевича или Паскевича‑Эриванского, изображали на лубочных картинках просто: тиснут медянкой, потом киноварью, еще охрой – и готов Черевин‑Паскевич. Генерал Черевин был запойный пьяница. Пил он непробудно, и в минуты редкого и короткого похмелья докладывал царю о том о сем, и тогда из этого выходило что‑то ладное для «лучших людей». Тут и подвернись умная баронесса Икскуль, Поговорили о ней «лучшие люди», и стала баронесса поджидать черевинского похмелья; дождалась, и своими «чарами», а у ней их было довольно, убедила пьющего генерала доложить царю о курсах, о том, что женское медицинское образование не только не вредно, но даже польза от него может быть… Царь выслушал Черевина милостиво и повелел тогда восстановить запрещенные курсы по более широкому плану. И стали курсы жить, процветать, много от них пользы было государству, а слава баронессы Икскуль как умной женщины еще более возросла. Куда бы ее деятельность ни направлялась, всюду видны были ее ум, твердая рука, административные и иные таланты. И как она умела выбирать людей, а выбрав, командовать ими!..

М. Е. Репин. Портрет баронессы В. И. Икскуль фон Гильденбандт. 1889
Было начало 1907 года. В Петербурге, на Малой Конюшенной, в доме шведской церкви, была моя выставка. Ее успех для меня, как для моих друзей и недругов, был неожиданным. Среди выставляемых картин была там небольшая «Богоматерь с младенцем»; ее на первых же днях и приобрела баронесса Варвара Ивановна, а через несколько дней на той же выставке и сама познакомилась со мной. Первое мое впечатление было чисто зрительное. Помню, что Варвара Ивановна была вся в черном, никаких украшений, ничего лишнего. Лицо бледное, красивое, интересное, очень хорошо сохранившееся для своих лет (сыну, кавалергарду, было тогда за тридцать). Сходство с портретом Репина было большое, хотя Репин и не уловил того, до чего так мастерски и остро добирался Серов. Особую оригинальность облику Варвары Ивановны Икскуль придавал локон седых волос надо лбом, как у Дягилева. Этот седой локон на черных, вьющихся хорошо положенных волосах придавал большую пикантность лицу Варвары Ивановны. С первых же слов умелая барыня взяла со мной верный тон, простой, как бы дружеский. Первая встреча наша закончилась приглашением, без обычного визита, к обеду. В назначенный день и час я был на Кирочной. Широкая лестница вела во второй этаж, в апартаменты баронессы; приемная, дальше гостиная во вкусе 80‑х годов, где лишь некоторый избыток живописно набросанных тканей, шелка, парчи и всякого рода безделушек, указывал на то, что хозяйка дома считает себя не чуждой вкусам художников стиля тогдашнего модного живописца Ганса Макарта или нашего Константина Маковского. В то же время в этой гостиной все было рассчитано на уют, располагающий к хорошим разговорам. Каждый уголок имел как бы свое особое назначение… Хозяйка встретила меня с любезной простотой, так знакомой нам, художникам. Она села на свое излюбленное место – кушетку, заполненную разного рода подушками, подушечками, – она как бы погрузилась в них, и они приняли ее в свои теплые объятия. Мне было предложено кресло напротив, около стола с большой лампой под огромным абажуром на ней. Слева, ближе к окну, стоял другой стол поменьше, круглый, как и первый, а на нем был поставлен, лицом к хозяйке, в широкой, черной резной раме портрет Максима Горького, имя которого в то время было особенно популярно среди будирующего Петербурга. Опытная, светски воспитанная хозяйка втянула меня в оживленную беседу, перескакивая с одной темы на другую, нигде не обнаруживая своей сущности. Скоро стали собираться другие приглашенные к обеду гости. Приехал ученый секретарь Академии наук академик Ольденбург, ставший более известным позднее, приехали муж и жена Медемы и, наконец, экс‑премьер Горемыкин со старушкой женой. Через несколько минут все были приглашены в столовую. Хозяйка указала место, и я, как «герой сезона», был посажен первым справа от хозяйки. Рядом сел старик Горемыкин, дальше Ольденбург и последним еще молодой псковский губернатор, зять Горемыкина, барон Медем. Сервировка стола прекрасная; обед не очень изысканный, но вкусный; винам особого значения не придавали. Беседа шла общая – о моей выставке, об искусстве вообще и на общие темы. Недавние грозные события затронуты за обедом не были. Мой сосед, с такой предрешающей свою судьбу фамилией, был очень прост: в нем не было и следа важного сановника, недавнего главы правительства; это был образованный, хорошо воспитанный старый человек. Менее других мне понравился академик Ольденбург. После обеда все вернулись в гостиную; там за разговорами прошла часть вечера; около десяти часов я простился и, приглашенный «не забывать», уехал домой. Позднее баронесса Икскуль в мои тогда довольно частые посещения Петербурга, узнав от общих знакомых о моем приезде, звонила ко мне по телефону в Гранд‑Отель или присылала записку с приглашением посетить ее, и я изредка бывал у нее и встречал иногда интересных людей. Во время одного из моих визитов баронесса познакомила меня с нарядным, высоким, лет пятидесяти, в генеральском мундире, с открытым лбом военным, по манерам, облику похожим на какого‑нибудь командира гвардейских полков. То был лейб‑медик Вельяминов, как говорила молва, счастливо заменяющий покойного барона Икскуль.
Бывая на Кирочной, я заметил, что портреты в резной черной раме на круглом столе у окна менялись сообразно с тем, кто был в те дни «героем сезона», о ком говорил Петербург.
Все чаще и чаще приходилось слышать о баронессе Икскуль, о ее энергии, деловитости, умении руководить большим делом, попавшим в ее руки. Она, между прочим, была почетным попечителем и чуть ли не основателем Кауфманской общины сестер милосердия, где все было насыщено ее инициативой, волей, умом. Дело там шло превосходно. Дисциплина была железная, и сестры общины, такие выдержанные, бесстрастные, преданные долгу, в накрахмаленных белых повязках‑кокошниках, воротничках и нарукавничках, были послушными исполнительницами указаний своей энергичной, не хотевшей стариться попечительницы.
Как‑то Варвара Ивановна заехала в Киев к сыну, тогда уже «бывшему» моряку, слабосильному, такому приятному бездельнику Грише. Он был женат на Тарновской, дочери одного из потомков малороссийских гетманов, богатого, своенравного, влюбленного в малороссийскую старину и имевшего у себя в черниговском имении лучшее собрание древностей своего края. В этот приезд в Киев Варвара Ивановна Икскуль посетила мою мастерскую. Она и тогда была все такая же интересная, не желавшая поддаваться влиянию времени пикантная женщина с черными, как вороново крыло, волосами, с неожиданным седым локоном в них, быть может, уже созданием парижского куафера.
Не помню, бывал ли я позднее у баронессы Икскуль в ее особняке на Кирочной, но я слышал, что круглый столик у окна и черная рама на нем не утратили своих чудесных свойств: в черной раме продолжали меняться «герои сезона», пока однажды, на смену Максиму Горькому, не появился новый герой… Григорий Распутин…
Заграничные впечатления
Путешествие 1889 года
(Вена – Италия – Париж – Дрезден)
Путь до Вены совершил я в постоянном напряженном внимании. Все казалось мне дивно интересным, и я переживал виденное с жадностью молодости. Города, сначала Галиции, а потом самой Австрии мне казались в первую поездку иными, чем потом. Я помнил, что силы надо беречь для Италии и умышленно многое пропускал из поля зрения. В Вену приехал к вечеру. Мост через Дунай со статуями, храмы, дворцы, весь характер города меня захватили своей новизной. Чтобы поделиться своими первыми впечатлениями у меня не было ничего, кроме почтовой бумаги, и я в тот же вечер написал обо всем виденном в Уфу.
На другой день я отправился по музеям. Бродил по ним до изнеможения. Очень был восхищен «инфантами»[210]. Из современных остановился перед доживающим тогда последние дни своей славы Макартом, разочаровавшись в этом «венском Тициане». Чем‑то привлек меня Матейко, которого я знал и любил по репродукциям. Но Вена была «попутным» городом, и я в ней не задержался. Все мои помыслы летели вперед, туда, через Земмеринг – к Венеции, Флоренции, Риму. И через два дня я был снова в вагоне и теперь, осмотревшись, стал спокойнее. Однако моим глазам скоро представились такие картины, которые еще не доводилось видеть до тех пор нигде. Пошли столь грандиозные ландшафты, такие сложные, характерные. Вот он – Земмеринг. Я стоял у окна, восхищенный, затаив в себе свои восторги. Вот она «заграница». Вот те «тирольцы» – охотники в зеленых шляпах с пером, что я привык видеть на картинках Дефрегера, Кнауса, вообще немецких художников. Как все не похоже на нашу Россию, такую убогую, серую, но дорогую до боли сердца. Наконец, проехав ряд туннелей, мы достигли границы. Здесь опять пограничная процедура. Она миновала для меня без всяких приключений. Пересели на другой, теперь итальянский поезд с маленькими, бедными вагонами, особенно по сравнению с нашими русскими… Новый говор, оживленный и красивый, поразил слух мой. Железнодорожные служащие, экспансивные, небольшого роста сменили крупных, медлительных австрийцев‑северян. Вот еще немного, и я в заветной, давно любимой Италии. «Аванти!»[211]– и поезд наш двинулся. Маленькие вагоны закачались, задвигались, побежали как‑то по‑новому, не по‑нашему… Паровоз засвистел, влетел в туннель, и через несколько минут мы были в ином мире, в волшебном мире. Солнце сразу пахнуло на нас как‑то по‑южному. Постройки, костюмы, все иное, то самое, что еще помнилось с детства на картинках у тетушки Анны Ивановны. Вот она подлинная Италия! Какая радость! Какая победа «уфимского купеческого сына» над сословными традициями, над укоренившимся «бытом»! Я в Италии, один, с мечтой о том, что и не снилось моим дедам и прадедам. Тут все и сразу мне показалось близким, дорогим и любезным сердцу. Я мчался, как опьяненный, не отрываясь от окна. Чем‑то питался. Пил и ел «caffee latte, pane»[212]и мчался туда, где жили и творили Тинторетто, Веронез, Тициано Вечеллио… Боже мой! Мог ли я думать, переживая мое страшное горе в мае 86 года, что через два года смогу быть так радостен, счастлив… Временами мне казалось, что я не один, что со мной где‑то тут близко и покойная Маша, что душа ее не разлучалась со мной, и потому счастье мое сейчас так велико и полно… Вечером мы увидали лагуны. Вот и Венеция. Станция. Я на минуту смущен. Ведь отсюда начинается то, что так заманчиво, пленительно, но для меня, с моей книжкой, без языка, так трудно. Однако смелым бог владеет. И тут, как и раньше, меня выручают мои двадцать шесть лет.
Носильщик, такой симпатичный (тогда мне казались все и всё симпатичными) подхватывает мой скудный студенческий багаж и пускается куда‑то вслед за всеми. Через минуту я вижу великолепную Венецию, мост Риальто, ее дворцы, гондолы, слышу особый крик гондольеров. Мы на Канале Грандо. Я говорю, куда мне надо ехать. Называю старый отель Кавалетто. Меня мой «симпатичный» итальяшка усаживает в гондолу этой гостиницы. Туда едут еще двое. Мы трогаемся. Я сижу, как в итальянской опере. Ночь, венецианская ночь, полная особых музыкальных созвучий. Воздух, насыщенный теплом, влажными испарениями канала. Мы проходим под мостом – въезжаем в сеть маленьких каналов. Чувство оперы усиливается. Наш гондольер перекликается с встречными, на углах, на перекрестках. Тихий плеск воды, мы скользим по темной поверхности каналов… В темноте иногда видим яркое освещение траттории. Там засиделось несколько синьоров, быть может, артистов. Звуки мандолины и чей‑то тенор ди грациа врываются страстным, влюбленным порывом в тишину волшебной венецианской ночи, и долго еще мы, удаляясь, слышим любовный восторг певца и вторящие ему звуки мандолины. Это нас приветствует дивная «владычица морей». Она хочет подчинить себе без остатка молодого дикаря‑художника. Он твой, Венеция! Он тебя любит почти так же, как свою бедную, холодную Родину…

М. В. Нестеров. Собор Св. Марка в Венеции. 1898
Тихо подплыла наша гондола к отелю Кавалетто. Внесли наши вещи и отвели нам соответствующие комнаты. Моя не была велика. Много, много таких, как я, искателей счастья, восторженных и невосторженных, перебывало в этой старинной комнатке «40‑х годов». И я, усталый от дороги и от пережитых впечатлений, наскоро умылся и погрузил в пуховик свое молодое тело и сладко, сладко опочил… Проснулся рано, умылся, оделся и отправился в путь, думая, что где‑нибудь по дороге выпью кофе. Вышел из подъезда. Венеция жила уже своей утренней жизнью. Венецианки бежали с корзинками на рынок и с рынка несли великолепные овощи, и я двинулся вперед за этими добрыми людьми… И не успел я пройти несколько шагов, как очутился перед красивейшей картиной, созданной гением человеческим. Отель Кавалетто был бок о бок с площадью св. Марка, и я был сейчас перед собором св. Марка, перед Дворцом дожей и проч. Я остановился, пораженный этим единственным во всем мире архитектурным творением. Все было забыто; забыл я о своем утреннем кофе, забыл обо всем на свете… Долго я бродил по диковинной площади, по оригинальности своей схожей с нашей Красной площадью, где так же поражает глаз и воображение чудо – Василий Блаженный. Однако здесь если и есть признаки некоего варварства, то лишь в том и тогда, когда знаешь, как создавался знаменитый венецианский собор и прославленный Дворец дожей. Благородный материал, из которого создались эти два величайших памятника средневековой папской Италии, обязывает к известной утонченности форм. Самое нагромождение этих форм, архитектурных образов вытекает естественно из эпохи или, верней, нескольких эпох, по силе творческого духа равных между собой, а потому и получается такая великолепная общность, ансамбль, с которым не только мирится глаз самого избалованного зрителя, но на протяжении веков восхищается человечество. Я же не только был восхищен, но и как‑то растерялся перед тем, что представилось мне, моему глазу, готовому ко всему чудесному. Ведь недаром же я попал в Италию, страну художественных чудес. Я был один, все впечатления виденного я должен был пережить, переварить спешно, и как ни был я подготовлен увражами, фотографиями и прочим материалом разных «историй искусств», но материалы эти так же передавали оригиналы, как всякий фотографический снимок мог передать живое, одушевленное лицо со всеми его душевными нюансами, сложной красотой, комплексом настроений, свойственных творению божию.
Налюбовавшись всем, что дала мне площадь св. Марка, я задумал пройти в самый собор, и так как на Венецию у меня было рассчитано всего три дня, а видеть там необходимо было очень многое, то я, напившись кофе тут же на площади, вошел в собор. Его внутренность соответствовала внешнему виду, но последний был неожиданней, смелей, фантастичней… Византийская базилика со всеми ее особенностями была налицо. Мозаики, качественно не однородные, несколько раздражали глаз. Превосходная ризница собора напоминала о наших богатствах этого рода. Я вышел из собора уже утомленный, и надо было хоть немного отдохнуть, чтобы с той же свежестью воспринимать красоты Дворца дожей. Я пошел побродить по каналу, поглазеть на движение, на нем происходящее. Все так было захватывающе ново, что те полчаса или час, что я оставался среди этих новых красот – исторических и природных, – немного помогли мне отдохнуть, и я, гонимый какой‑то жаждой любопытства, прошел во дворец. Меня мало интересовали исторические залы дворца. Я весь отдался восхищению самого художества, вне событий, совершавшихся некогда на фоне этих великолепных, гениальных творений Тинторетто. Тициана, Веронеза. Они одни были в то время властителями моих дум, моего художественного восприятия. И я не знаю, было ли бы лучше, если бы со мной в те часы был опытный профессионал‑спутник. Я всегда очень большое значение, и предпочтительное, отдавал непосредственному впечатлению от художества. Осмотрев Дворец дожей, я окончил свой день на площади св. Марка, слушая музыку, любуясь толпой гуляющих, среди коих было много красивых венецианок, знакомых мне по картинам Веронеза и Тициана. Усталый, я побрел в отель Кавалетто, счастливо заснул, с тем чтобы на другой день идти в Академию.
Утром, напившись кофе и закусив хлебом с маслом, я двинулся отыскивать Академию. Спрашивал по пути дорогу туда: как почти всегда, больше по чутью ее нашел. Пробыв в Академии до обеда, полюбовавшись на Тициана, Карпаччо, записав все, наиболее мне понравившееся, для памяти, а некоторые картины зарисовав (на фотографии со всего, что мне нравилось, денег у меня бы не хватило), я отправился обедать. На обратном пути долго любовался статуей Колеонэ, которую потом, в другие приезды в Венецию, всегда осматривал с особым восхищением. Остаток дня провел гуляя по Венеции, заходя в церкви. Был на рынке, на почте. По моему плану на Венецию у меня было положено три дня, и вот завтра я должен был осмотреть еще несколько церквей, еще раз побывать в соборе св. Марка и ехать во Флоренцию, памятуя, что цель моей поездки Рим и Париж.
Неохотно на другой день покидал я Венецию: я стал только что с ней осваиваться, и вот опять езда по железной дороге. Утешал себя тем, что впереди еще так много прекрасного, что нельзя засиживаться подолгу на пути.
Выехав из Венеции, заехал в Падую, осмотрел там собор и капеллу с фресками Джиотто и двинулся во Флоренцию. Тут все было иное, чем в Венеции, и мне еще больше пришлось по вкусу. Остановившись недалеко от «Дуомо», в маленьком отеле «Каза Нардини», где все мне показалось так уютно, я, приведя себя в порядок, двинулся в поход. На Флоренцию у меня была дана неделя времени, немного, да и кипучая моя натура требовала сейчас же деятельности. Через час я уже был в соборе, осматривал с жадностью баптистерий, двери Гиберти, словом, все то, что у меня было помечено, назначено еще в Москве для обзора. Зашел закусить где‑то по дороге в Синьорию. Так часов до пяти‑шести, а вечером поехал отыскивать художника Клавдия Петровича Степанова, жившего здесь с семьей. По дороге туда восхищался Флоренцией, которая была вся в цветах, в чайных розах. У моего извозчика розы были на шляпе, у его лошади в гриве, в хвосте. Попадались экипажи, тоже украшенные розами… Их не знали куда деть. Решетки, подъезды вилл были увиты розами. Ароматный воздух сопутствовал нам по дороге…
Красива, своеобразна была Венеция, но и лицо Флоренции было прекрасно, и я с тех пор полюбил ее на всю жизнь.

М. В. Нестеров. Флоренция. Из альбомных зарисовок. 1889
Семья Степанова встретила меня приветливо. Там я познакомился с милейшим Николаем Александровичем Бруни, внуком знаменитого ректора Академии, автора «Медного змия» – Федора Антоновича Бруни. С Николаем Александровичем мы сошлись, да и трудно было с ним не сойтись – так обаятелен, красив в те поры был этот методичный, мягкий, больше того, нежный «Николо Бруни». Мы с ним сговорились встретиться в Риме; встретились там и остались в добрых отношениях на всю жизнь. После многих дней подневольного молчания, я с великой радостью болтал по‑русски теперь во Флоренции. На другой день вместе с Бруни был в Академии, в монастыре св. Марка.
Душа моя полна была новыми впечатлениями, я не мог их вместить, претворить в себе… Получался какой‑то хаос… Скульптура Микельанджело и фрески в кельях монастыря св. Марка – все это теснило одно другое, приводя меня в неописуемый юный восторг. Язычник Боттичелли легко уживался с наихристианнейшим фра Беато Анжелико. Все мне хотелось запечатлеть в памяти, в чувстве, всех их полюбить так крепко, чтобы любовь эта к ним уже не покидала меня навек. Мне кажется, что искусство, особенно искусство великих художников, требует не одного холодного созерцания, «обследования» его, но такое искусство, созданное талантом и любовью, требует нежной влюбленности в него, проникновения в его душу, а не только в форму, его составляющую. Что меня еще пленило в знаменитом монастыре – это миниатюры книг. Некоторые из них не только поражали меня своими техническими достижениями, но того больше, теплотой чувства, опять любовью к тому, над чем художник долго и так искусно трудился…

М. В. Нестеров. Флоренция. Из альбомных зарисовок. 1889
Дни шли за днями. Музеи чередовались церквами. Вечерами же я бывал или у Степановых, или бродил по берегам Арно, на Сан Миньято, бродил, как зачарованный странник. Я жил тогда такою полной жизнью художника, я насыщался искусством, впитывал его в себя, как губка влагу, впитывал, казалось, на всю остальную жизнь. Какое великое наслаждение бывало бродить по углам, капеллам церкви Санта Мария Новелла. Усталый до изнеможения, до какого‑то «опьянения» еще не привыкшего к опьянению юноши, я шел в свою «Каза Нардини», и едва успевал раздеваться, – засыпал сладким, счастливым сном. Вот тогда, в первую мою поездку по Италии, я постиг всю силу чар великих художников. И что удивительного в том, что они живут по четыреста‑шестьсот лет; ведь в них, как в матери‑природе, источник жизни, в них – истина, а истина бессмертна… Мои альбомы, записные книжки были полны зарисовок, кратких, часто наивных мыслей, и я редко соблазнялся возможностью себя побаловать покупкой фотографии с особо любимых вещей. Я должен был помнить, что пятисот рублей, которые были зашиты в мешочке, что у меня на груди, должно было хватить мне на три месяца, на всю Италию и Париж с его Всемирной выставкой. Это надо было помнить твердо, и я это помнил.
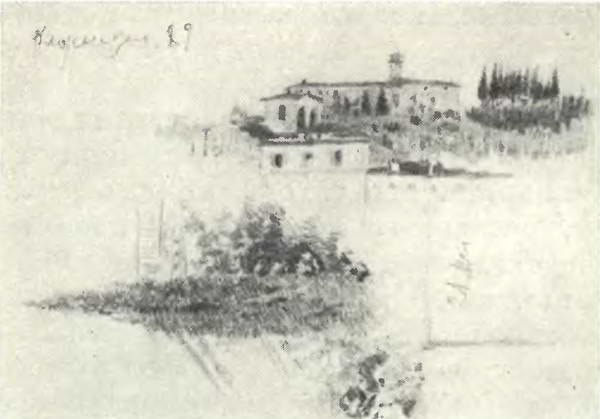
М. В. Нестеров. Флоренция. Из альбомных зарисовок. 1889
Дни быстро летели во Флоренции. Все, что было можно бегло осмотреть, было осмотрено. В Уффици, в монастыре св. Марка, в Академии и в некоторых церквах я побывал по нескольку раз. Я был полон Флоренцией. И на восьмой день попрощался с друзьями и с самой Флоренцией, выехал в Рим, заехав предварительно в Пизу. Помню, по дороге высунулся из окна, и мне попал в глаз летевший из паровоза уголь. Я неосторожно растер глаз, и первое, что надо было сделать, – зайти в аптеку и успокоить глаз. Потом уже я отправился по низеньким, перекрытым арками улицам к Кампо‑Санто, собору и проч. Сине‑голубое небо давало дивный фон оранжевому мрамору падающей башни баптистерия собора. Превосходный этюд этого пизанского мотива я потом видел у своего друга, польского художника Яна Станиславского, влюбленного, как и я, в Италию.
Кто не знает, кто не пережил того особого чувства, когда подъезжаешь, да еще впервые, к Вечному городу!.. Я с таким напряженным вниманием ждал того момента, как увижу купол св. Петра… Вот, вот он! Его громада как бы покоится на огромном плато. Он стоит, как сказочная голова богатыря, среди поля, чистого поля. И лишь тогда, когда поезд пронесется еще много верст, вы видите, что на этом поле, около этой головы‑купола, ютятся тысячи зданий: дворцов, храмов; сотни тысяч живых существ живут, движутся вокруг него, такого спокойного, величественного в своей гениальной простоте. Поезд подлетел к перрону. Осведомленные из Флоренции, меня здесь встречали скульптор Беклемишев и еще кто‑то из земляков. Радостно здороваюсь и слышу, что мне готов уже и угол на знаменитой улице артистов, на Виа Систина. Она приняла меня радушно, как до того приняла тысячи мне подобных восторженных поклонников в Италии, Риме. Я занял маленькую комнатку в доме «ченто венти трэ»[213], принадлежавшую нашему историку искусств профессору Цветаеву, создателю Московского скульптурного музея Александра III[214]. Сам Цветаев уехал в Афины, в Египет, и комнатка его была пустая. В ней я и устроился благодаря Беклемишеву, жившему в том же доме. Комнатка маленькая, чистенькая, с пышной постелью, со ставнями от полуденного жара. Хозяйка милая, приветливая, и с первого же дня я чувствую себя как дома. Позади дома наш дворик. На нем растут несколько апельсиновых деревьев, покрытых плодами. К ужину собрались в траттории у сеньора Чезаре. Кроме нас, русских, здесь были немцы, испанцы, англичане, шведы. Наш стол был посередине и самый большой, да и нас было больше, чем остальных. Был тут и римский старожил Рейман, тогда трудившийся над рисунками в катакомбах, их увековечивший. Здесь бывали и Риццони и Бронников, в то время жившие где‑то на морском побережье. Был и так называемый «Шурка Киселев», пенсионер Академии, редкий добряк, не знавший, за что взяться ему в Риме. Тут было несколько барышень, посланных училищем барона Штиглица, – и еще каких‑то молодых людей. Беклемишев всем меня представил, и я сразу вошел в эту русскую семью на Виа Систина.
Обеды и ужины у Чезаре были шумны и многоречивы… Все приходили туда после осмотра или достопримечательностей, или иной дневной работы художников – усталые, но молодость недолго поддается этому состоянию. Стакан вина делает человека опять бодрым и сильным. Помню, как контраст нашей шумной ватаге, старика скульптора итальянца, сидевшего в уголке за своей «квинтой» вина и салатом: как несхоже было все в нем с нами, северными варварами… И его молчание и его донельзя скромная трапеза. Мы же, русские и англичане, поедали несметное количество яств, питий и бесконечно много спорили, говорили, кричали и сидели за столом дольше всех.
С первого же дня я начал свой осмотр Рима. Был в своей компании после ужина на соседнем Пинчио, в парке, идущем от самой лестницы Тринита дей Монти до самой Пиацца дель Пополо. На другой день пошел к св. Петру. Не нужно говорить, как поразил меня его размер, как внимательно я его осматривал, но я не вынес оттуда особых впечатлений, как от искусства. Он мне показался холодным (как его мозаики) и напыщенным. Он не соответствовал моему представлению о христианском храме; он был слишком католическим, торжествующим, гордым для моего православного понимания храмоздательства. Это было небо, притянутое к земле, а не земля, вознесенная к небесам.