Игорь Евгеньевич Всеволожский
В морях твои дороги
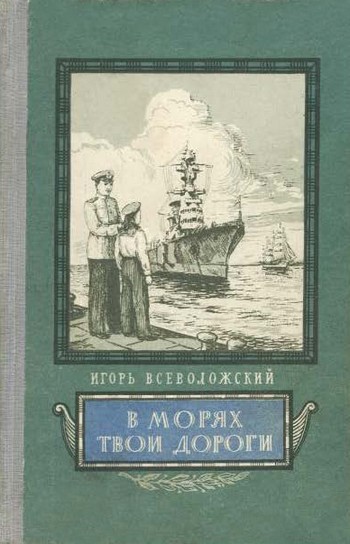
Игорь Евгеньевич Всеволожский
В морях твои дороги
И с той поры в морях твоя дорога…
А. С. ПУШКИН
Книга первая
НАХИМОВЦЫ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СЫН МОРЯКА
Глава первая
ОТЕЦ
Я родился в Ленинграде, на улице Красных Зорь. Как многие мальчики, я собирался стать машинистом, кондуктором, начальником станции. Я изображал паровоз, разводивший пары, и на трехколесном велосипеде отправлялся в далекий, заманчивый путь. Впервые побывав в цирке, я стал укротителем кота Марса; после первого посещения ТЮЗа столовая превратилась в театральный зал, кабинет отца – в сцену, портьеры – в занавес, фрегат над диваном на полке – в театральную бутафорию; мама была в театре единственным зрителем… Отец подарил мне цветные карандаши, и мама не знала – радоваться ей или огорчаться: клеенка на столе, стулья, даже стены в коридоре и кухне были разукрашены мною во все цвета.
…Мама! С тех пор, как я помню себя, я помню ее, мою маму…
Вот я с голыми, вечно ободранными коленками лихо скатываюсь с четвертого этажа; перила ускользают, я больно ушибаюсь о каменный пол. Я не реву, но у мамы глаза полны слез: «Сколько раз я предупреждала тебя, Никиток!» Она спешит на кухню – намочить полотенце.
Она читала мне вслух мои первые книги; это рассказы о Ленине, о славных конноармейцах Буденного, о моряках, кораблях, дальних плаваниях. Мой отец – военный моряк, и я гордился, что он командует катером. От отца я впервые узнал, что такое мостик и трапы, кают‑компания и камбуз, торпедные катера и торпеды. Я называл кают‑компанией столовую, переднюю – баком, а трамвайные столбы под нашими окнами – мачтами. Я отбивал склянки столовым ножом по кофейнику и пронзительным звоном будильника объявлял боевую тревогу. В ванной я изображал водолаза и приучал к воде кота Марса; вода выплескивалась, затопляла переднюю, вытекала на лестницу; я постоянно ходил с расцарапанными руками.
Я рисовал корабли, катера и подводные лодки; морских животных, живущих в глубинах; смертельные схватки водолазов со спрутами.
Ложась спать, мечтал вслух:
– Вырасту, пойду плавать!
– Значит, и ты, как отец, уйдешь в море… – с грустной улыбкой говорила мама.
Недаром она упрекала отца, когда он приезжал на денек из Кронштадта:
– Ты ошибаешься, Юра, думая, что твой дом – в Ленинграде.
Отец крепко обнимал ее, утешал: жену, мол, и сына он крепко любит!
– Но не больше моря! – не сдавалась мама.
Да, он море любил! Мы залезали на огромный диван, и отец принимался рассказывать о ночных вахтах, когда не видно ни зги и лишь слышно, как плещется за кормою вода; о походах в шторм, когда пена, клубясь, перекатывается через палубу, тогда – держись! Зазеваешься – подхватит и унесет в глубину! Он рассказывал о дальних походах в порты, где дома с черепичными крышами не похожи на наши; о желтой лунной дорожке, пересекающей путь корабля. Море в рассказах отца то было тихим и гладким, как одеяло из зеленого бархата, то вдруг начинало бурлить, поднимались волны и корабль оказывался в глубоком ущелье, среди водяных черных гор…
И мама чувствовала, что и я, только вырасту, уйду от нее…
Я, жалея ее, обещал:
– Я буду к тебе приезжать…
– Часто? – с надеждой спрашивала мама.
– Ну, нет. Знаешь, я буду где‑нибудь очень далеко: на Тихом океане, на Севере…
Мама целовала меня, ее синие глаза были нежные, любящие, ее золотые волосы щекотали мой подбородок; я засыпал, не выпуская ее теплой руки. Во сне я видел себя то на мостике, то у перископа подводной лодки, то на марсе крейсера, высоко над палубой – во сне я был уже моряком. Недаром ведь наша фамилия флотская – Рындины: и мой прадед и дед были моряками. Рындой назывался звон колокола на парусных кораблях в самый полдень.
Я с нетерпением ждал отца. Он всегда приезжал неожиданно, глухой ночью. Мама, услышав звонок, выбегала в прихожую. Я высовывал нос из‑под одеяла и слышал, как она восклицала:
– Наконец‑то приехал, родной!
– Ну, как вы тут? – спрашивал он. – Здоровы? Никитка спит?
– Я проснулся! Иди сюда, папа!
Он входил ко мне в комнату в черной флотской шинели и в запорошенной снегом ушанке, и я кидался к нему на шею. От отца пахло холодом, ветром и душистым трубочным табаком.
– Погоди, Кит, задушишь, – смеялся он. – Да погоди же, простудишься, – а сам крепко прижимал меня к холодной шинели и целовал в лоб, в нос и в уши.
Волосы у него были густые, чуть вьющиеся; лицо молодое, широкое, доброе; карие глаза почти всегда улыбались, а щеки – они даже зимой были покрыты легким загаром. На синем кителе поблескивали нашивки капитан‑лейтенанта.
Он торопил:
– Одевайся скорей, будем завтракать.
В эту ночь отец не ложился. Чтобы добраться до нас, ему надо было переехать залив по льду в автобусе, целый час проскучать в электричке и пешком добираться от вокзала на Петроградскую сторону: так рано трамваи еще не ходили.
Пока я умывался, отец разгружал чемоданчик (он всегда привозил много вкусных, вещей). За окнами еще было темно; к стеклу прилипали снежинки. Ярко светила лампа над круглым столом. Мама щебетала, как птица, и разливала ив большого медного чайника чай. Отец начинал рассказывать что‑нибудь очень смешное: о корабельном медведе, который стащил и съел кусок мыла и целый день пускал мыльные пузыри, или о корабельном коте, потерявшем в бою с крысами полхвоста и пол‑уха. Отец изображал медведя и кота так смешно, что мы смеялись до слез.
А потом мама спрашивала:
– Юра, ты к нам надолго?
– О‑о, на целый большущий день! – говорил отец так, что можно было подумать: «большущий день» – это что‑то вроде целого месяца. Но я знал, что «большущий день» пролетит в один миг и отец снова уедет на свои катера. И он нарочно говорит «целый большущий день», чтобы и нам, и ему казалось, что мы проведем втроем много длинных часов.
Глава вторая
В КРОНШТАДТЕ
«Целый большущий день» пролетал в один миг. Мы успевали побывать в театре, в музее и на Невском, в кондитерской «Норд». Отец смешил всех, когда после кофе с пирожным заявлял, что голоден и хочет сосисок и предлагал мне составить компанию. Вечером к нам приходили его товарищи моряки. Они смеялись, спорили, пили чай, снова спорили, вспоминали походы, недавнюю войну с белофиннами. Засыпая, я слышал их оживленные голоса.
А на другой день отец будил меня на рассвете.
– Кит, проснись! – тормошил он меня. – Едем! Пора!
Я вспоминал, что идти в школу не надо: каникулы. А на каникулах он меня брал с собою в Кронштадт.
Мама, уже одетая, собиравшая в коричневый чемоданчик необходимые отцу вещи, озабоченно спрашивала:
– А Никиток не простудится?
– Вот еще! – возражал отец. – Морякам сие не позволено!
Кукушка высовывала в окошечко черного домика клюв и куковала шесть раз.
– Не скучай, Нинок, Кит послезавтра вернется, – говорил отец.
– А ты?
– Я, думаю, через недельку, – обещал отец не очень уверенно.
Мама повязывала мне шарф и подавала отцу чемоданчик.
Мы наперегонки спускались по лестнице, выходили на пустынный Кировский. В темном морозном воздухе медленно кружились снежинки. Где‑то звонил трамвай и светились два огонька – синий и красный. Через весь город мы ехали на Балтийский вокзал.
Электричка уже стояла возле узкой платформы, запорошенной мелким снежком.
В этот ранний час в вагоне было полно моряков: они возвращались из воскресного отпуска.
– А, Рындины! – здоровались они с нами.
Поезд трогался. Лишь проезжали Стрельну, начинало светать. За окнами мелькали дачи и деревца, на которых висели, как елочные игрушки, сосульки. После Петергофа моряки поднимались с мест: они боялись опоздать к ледоколу. И когда электричка останавливалась у ораниенбаумской платформы, мы все пускались наперегонки через железнодорожные пути к пристани, у которой уже гудел черный с красной трубой ледокол; он кричал: «Торопитесь!» Едва мы успевали вскочить на палубу, матросы убирали сходни. Отец советовал: «Пойди‑ка ты, Кит, в каюту, смотри, отморозишь уши». Но мне не хотелось уходить вниз, в тепло, где стучат машины. Наверху было куда интереснее. Ледяной ветер обжигал нос и лоб. Ледокол полз по узкой черной дорожке, а рядом, по толстому льду, спешили крытые брезентом машины. Вдали виднелись корабельные мачты. Из тумана выплывали собор с золотым куполом и острый шпиль штаба флота.
От пристани шли через город и парк. Город был большой, с прямыми, широкими улицами и старинными домами. На памятнике Петру, словно белый плащ, лежала толстая корка снега.
Корабль «Ладога», вмерзший в лед, стоял подле мола. Из трубы тянулся к белому небу дымок. Мы поднимались по сходне на палубу «Ладоги». Матрос в необъятной шубе пропускал нас. Вахтенный офицер расспрашивал у отца, как тот провел воскресенье, и рассказывал корабельные новости. Корабельный дог Трос высовывал морду из люка и подходил, виляя хвостом. Он брел за нами, стуча когтями по палубе, больше похожий на теленка, чем на собаку, и ловко спускался по отвесному железному трапу.
Отец жил на «Ладоге» в каюте номер семнадцать: в два круглых иллюминатора были видны торпедные катера. На письменном столе стоял портрет матери – она улыбалась; над столом на широкой полке – в два ряда книги; в железном шкафу, искусно раскрашенном под дуб (на военных кораблях мало дерева и все из железа и стали), висели парадная тужурка отца, его рабочий китель, клеенчатый плащ. Рядом со шкафом стоял прочно привинченный к палубе небольшой кожаный диван. Койка с двумя лакированными ящиками, в которых хранилось белье, была похожа на низкий комод.
Отец уходил на свой катер. Я садился за стол, перелистывал книги. У отца было их много. Были книги с картинками – и я разглядывал их с удовольствием. Вот русский маленький катер подходит к большому турецкому кораблю и упирается в него длинным шестом. Из воды вырывается пламя и дым. Это первый торпедный катер адмирала Макарова. К шесту привязана мина. А вот другая картинка. Два катера нападают на турецкий корабль и взрывают его. Мины уже к шесту не привязаны. Они сами движутся под водой. И на светящейся в лунном свете покрытой рябью воде лежит на боку турецкий корабль «Интинбах», весь в дыму, и вдали видны два черных маленьких силуэта. Это – первые торпедные катера. Теперь они не такие – стоит выглянуть в иллюминатор. Они похожи на больших голубых птиц, опустившихся на воду. И ходят они с быстротой в сто километров в час.
Когда надоедало перелистывать книги, я отправлялся путешествовать по кораблю с Тросом. Попадавшиеся навстречу офицеры приветливо здоровались со мной, называя меня «Рындин‑младший».
На камбузе кок, ленинградец с Гулярной улицы, с лоснящимся широким лицом, похожим на блин, всегда спрашивал: «На месте ли стоит Петроградская сторона?» Толстяк угощал дога костью, а меня – пирожком с мясом. В продовольственных складах у нас тоже были друзья: баталеры. Два полосатых кота, обитатели баталерки, круглые, как мячики, увидев Троса, начинали сердито фырчать, но дог не обращал на них никакого внимания, словно их вовсе не существовало на свете. Кошачью породу он искренне презирал и считал ниже своего достоинства связываться с котами.
На «Ладоге» все – и матросы и офицеры – были заняты делом до самого полудня, когда боцманские дудки свистали обед.
В каюте я заставал отца, вернувшегося со своего катера. Отец надевал новый китель, и мы поднимались в кают‑компанию – большой круглый зал с кожаными диванами. Офицеры уже расхаживали вокруг стола. Старший (хотя он был моложе многих) офицер, Николай Степанович Гурьев, сухощавый, лысый, но с черными густыми бровями, приглашал: «Прошу к столу!» И тогда каждый занимал свое место. Для меня ставили стул между Гурьевым и отцом. Вестовой приносил фарфоровую белую миску, и Николай Степанович разливал по тарелкам дымящийся борщ.
В кают‑компании всегда рассказывали много интересных историй. Товарищ отца, лейтенант Веревкин, вспоминал, как во время войны с белофиннами он высадил на глухих шхерах одного офицера. Вооруженный пистолетом и парой гранат, офицер ушел в ночь, один.
– Я не знал, – продолжал Веревкин, – какое ему было дано задание, и, разумеется, не имел права расспрашивать. Когда мы снова взяли его на катер в условленном месте, он был весел, как школьник, получивший пятерку. Тот офицер ходил в тыл врага и каждый раз возвращался благополучно. Однажды мы прождали его всю ночь, а он не вернулся. Мы опять пришли в следующую ночь и до рассвета ждали сигнала. Но так и не дождались его.
Веревкин встал и, обратившись к старшему офицеру: «Прошу разрешения от стола», ушел.
Отец вспоминал, как его катер, потеряв ход, был атакован тремя самолетами.
– Страшно, поди, было, Юрий? – спросил Гурьев.
Я думал, отец скажет: «Ну, что вы! Не страшно». Ведь я отца считал самым храбрым человеком на свете! И вдруг он ответил:
– Страшно… – И тут же добавил: – Когда мы сбили двоих, но третий все же спикировал на нас и нам стрелять уже было нечем, мне стало страшно и обидно до слез – погубить команду и катер. Но мы все‑таки ушли от врага и возвратились в базу.
Вечером, просмотрев в салоне кинокартину, мы ложились спать – отец на койке, а я на диване и на приставленном к нему кресле. Жужжал вентилятор. Что‑то гудело. Гулко стучало над головой, когда кто‑нибудь пробегал по палубе.
«Когда же я тоже буду ходить на катере, жить в такой же каюте?» – думал я.
– Папа, – спросил я однажды, – а что из предметов для моряков важнее всего?
– Математика.
– А языки?
– Минимум два, кроме родного.
Я хотел еще о многом спросить, но отец уже крепко спал.
Рано утром возвращался я в Ленинград. Мама ждала меня с нетерпением. Я рассказывал ей о корабле, об офицерах, об отце. О том, как он воевал на торпедном катере и прорывался на Ханко, нам удалось узнать из газеты «Красный Балтийский флот», которую принес мой одноклассник Бобка Алехин, сын инженер‑механика с крейсера «Киров». Сам отец даже нам никогда не рассказывал, за что он получил ордена. В школе, после каникул, мне приходилось еще раз рассказывать о Кронштадте. Товарищи не бывали на кораблях и торпедный катер видели лишь в кино, в одной «флотской» картине!
Глава третья
АНТОНИНА
Однажды зимой, в субботу, я отправился в свой любимый Театр юных зрителей на Моховой улице.
Я долго ожидал трамвая на Кировском и от Лебяжьего моста бежал сломя голову, чтобы не прозевать начало.
После третьего звонка, впопыхах пробираясь по круглому залу и наступая ребятам на ноги, я, наконец, отыскал свое место. К моему удивлению, оно было занято щупленькой девочкой в голубом платье. У нее были длинные русые волосы и разные глаза: левый – голубой, правый – зеленый, весь в карих крапинках. А пальцы были выпачканы в чернилах – отправляясь в театр, девочка не потрудилась их вымыть.
– А ну‑ка, потеснись! – сказал я (девочек мы презирали).
Девочка чуть подвинулась. Я втиснулся между ней и заворчавшим на меня мальчиком, свет погас, и началось представление.
Я уже несколько раз видел историю Жана, которого старшие братья выгнали, отдав ему лишь кота. Кот выпросил себе сапоги и сумку, и они с Жаном отправились искать счастья.
Девочка заерзала, и я втихомолку толкнул ее.
– Ты всегда такой? – вполголоса спросила она отодвинувшись.
– Какой?
– Деручий и злой?
– А зачем ты все время вертишься? Не можешь сидеть спокойно?
– Мне плохо видно.
– Так иди на свое место!
– Я билет потеряла… Сзади и сбоку зашикали.
А на сцене Жан с котом попали в королевский замок на бал.
– Вот бы нам туда! – вдруг схватила меня за руку девочка.
– Куда? – резко отдернул я руку.
– Туда!
Она вся подалась вперед. Ишь, девчонка, куда захотела: на сцену, в сказочную страну! А тут как раз кончилось действие и в зале стало светло.
– Ты в первый раз смотришь «Кота в сапогах»? – спросила девочка, уставившись на меня своими разноцветными глазами.
– Совсем нет. В четвертый.
– А я – в третий, – продолжала она разговор. – А ты любишь ТЮЗ?
– Очень.
Это была сущая правда.
– И я ужасно люблю… – протянула девочка.
– Так не говорят: «ужасно люблю», – осадил я ее. – «Ужасно любить» нельзя. Это глупо!
Она надулась и отвернулась. Ну и пусть! Но после звонка она снова обратилась ко мне:
– Ты позволишь мне посидеть? Или опять станешь толкаться?
– Ну, так и быть, сиди. А как же ты прошла без билета?
– Я так торопилась, что потеряла его в раздевалке. Искала, искала и не нашла. Сама не знаю, где он пропал… Тебя как зовут? – спросила она.
– Никитой.
– Никитой?.. – переспросила она и поморщилась. – Мне не нравится.
– Ишь ты, не нравится! – обозлился я. – А тебя как зовут?
– Антониной.
– Ну, и никуда не годится! – сказал я с удовольствием.
– А мне нравится, – возразила девочка. – Ай! – схватилась она за карман.
– Вот растеряха, – сказал я с презрением. – Опять что‑нибудь потеряла?
– Потеряла? Нет! Я думала, он сбежал.
– Кто сбежал? – удивился я.
– Солнечный зайчик.
– Зайчик? Какой еще солнечный зайчик?
– Не веришь? Я его поймала и приручила. Вот он у меня где сидит… – хлопнула она рукой по карману. – Хочешь на него посмотреть?
– Ясно, хочу…
– В другой раз. Он спит…
И она засмеялась, довольная, что оставила меня в дураках.
Свет погас, и на сцене появился дворец людоеда. Мне стало не до девочки и ее выдумок. Людоед слопал короля и советника, но кот уговорил страшилище превратиться в мышонка. Едва успел людоед превратиться в мышь, кот кинулся за ним и – хап! – съел его.
Все запели от радости – и кот и люди.
Ребята обступили со всех сторон сцену.
Я забыл про девчонку и увидел ее лишь внизу, в раздевалке. За ней пришел морской офицер, смуглый, с черными усиками, – наверное, ее отец.
Глава четвертая
МЫЕДЕМ К ОТЦУ
И вот счастливая жизнь кончилась. На нас напал Гитлер. Каждый день в городе завывали сирены и радио объявляло: «Граждане, воздушная тревога!» Мама стала работать на оборонном заводе и возвращалась домой поздно вечером. Отец долго не приезжал, и мы не знали, что с ним. Но вот однажды он приехал ночью. Он сбросил на пол тяжелый мешок с продуктами и сказал: «Это вам». Он уезжал на Черное море.
– В Севастополь? – спросил я.
– Да, в Севастополь!
Мама уложила в коричневый чемоданчик белье, бритву, хотела положить хлеба, но отец сказал, что не надо. Он взглянул на часы и сказал глухим голосом:
– Пора, а то опоздаю.
– Ты осторожнее, Юра, – попросила мама, прислушиваясь к глухим разрывам.
Отец в последний раз взглянул на книжные полки, на картины на стенах, на фрегат, распустивший паруса над диваном, поцеловал меня, маму и стремительно вышел на лестницу. Дверь внизу глухо стукнула. Он ушел…
Пришла зима. Город начали обстреливать из орудий. Я больше не ходил в школу. Почти все мои одноклассники эвакуировались. Боевые корабли, знакомые по Кронштадту, стояли на Неве и Фонтанке, во льду. На них было больно смотреть.
Как‑то раз я очутился на Моховой. Широкая дверь театра, раньше всегда ярко освещенная, была заколочена досками. Ветер с Невы нес сухую снежную пыль и теребил обрывок афиши, на которой было написано: «Кот в сало…» Одно стекло было разбито.
Придя домой, я заснул и увидел во сне Антонину. Вооружившись палкой с сетчатым колпачком, она охотилась за солнечным зайчиком. Поймав его, она зажала сетку пальцами, выпачканными в чернилах, и спрятала зайчика в карман.
Я проснулся от холода. Мама уже пришла с работы и, растопив печурку, жарила на ней тонкий лепесток бурого хлеба.
Она всегда резала хлеб на тоненькие кусочки и поджаривала их на плитке. И я не раз замечал, что она хитрит, оставляя мне больше кусочков, чем себе…
Бедная мама! Ее золотые и вьющиеся волосы стали темно‑серыми, словно их посыпали пеплом. Вокруг синих глаз разбежались морщинки, щеки опухли, а маленькие руки ее покраснели и потрескались. Она закутывалась во все платки, какие были дома, потому что стояли сильные морозы. Раньше она бегала по комнатам и звонким голосом распевала песни. А теперь стала передвигаться медленно, с трудом, будто ноги ее, в неуклюжих валенках, прилипали к полу, и голос у нее стал тихий и хриплый.
Наша комната с забитыми фанерой окнами была холодна, как ледник, и пуста, как сарай. Мы сожгли все, что горело: столы, шкафы, стулья. Мама не решалась жечь только отцовские книги.
– Проснулся, Никиток? – спросила мама. – Нам предлагают эвакуироваться в Сибирь… – Она сразу добавила: – Я бы из Ленинграда ни за что не уехала, но тебя я должна спасти. Будь что будет, поедем. Из Сибири доберемся к отцу.
– К отцу! До отца было так далеко!..
«Интересно, где теперь эта смешная девочка с ее выдумками?» – подумал я. «Вот бы нам туда!» – сказала Антонина в театре. Ей хотелось попасть в солнечную страну… а кругом были холод и лед.
Темный поезд ощупью пробирался редким лесом. Болото чавкало, когда в него попадали снаряды. На Ладожском озере – на льду – нас бомбили. Потом другой поезд, длинный, из одних товарных вагонов, много дней вез нас в Сибирь. Мы очутились в городе с деревянными тротуарами. Тут был хлеб, даже масло. Мы довольно долго прожили в этом городе, хотя мама и торопилась уехать. Знакомые ленинградцы ее отговаривали: «Вы, Нина, с ума сошли – ехать в такую даль, на Кавказ!»
Но мать никого не слушала. Она получила письмо от отца. Он писал, что защищал Севастополь, а теперь его катера кочуют по портам Черноморского побережья. Мы должны приехать в Тбилиси и найти там художника, отца его друга. Художник поможет нам добраться до моря. Он будет знать, где отец.
Мама долго добивалась, чтобы нам выдали пропуска.
И вот мы поехали на юг, все на юг, переплыли Каспийское море, причем пароход очень качало и мама болела морской болезнью; снова ехали поездом и, наконец, поздно вечером очутились на вокзале в Тбилиси. Мы должны были пойти в город и отыскать художника. Письмо с его адресом до нас не дошло.
* * *
Когда мы вышли на площадь, мне показалось, что мы стоим на краю пустыни. Мама взяла меня за руку. Грузовик с синим глазом, грохоча, вынырнул из темноты и промчался мимо.
– Ай‑ай‑ай, вас могло сшибить, – сказал какой‑то человек. – Вы приезжие?
– Да, мы из Ленинграда, – ответила мама.
– Из Ленинграда? – удивленно повторил незнакомец. – Какую улицу ищете?
– Улицу? Я не знаю, на какой улице живет тот, кто нам нужен. Где тут справочное бюро?
– Уже закрыто, генацвале.[1]Как его фамилия? – продолжал допытываться незнакомец.
– Гурамишвили.
– Гурамишвили?
Достав папиросу, незнакомец зажег спичку, и я увидел его лицо, немолодое, смуглое, с густыми черными усами.
– Гурамишвили живет со мной рядом. Это недалеко. Пойдем, провожу.
– Но, может быть, он не тот Гурамишвили? – спросила недоверчиво мама.
– Ва! Тот, не тот! Скоро ночь, ночью ходить нельзя, ночью патруль задержит. Идем.
Мама колебалась.
– Ты, генацвале, не бойся, – убедительно сказал незнакомец. – Я Кавсадзе, Бату Кавсадзе, портной. Меня тут все знают. Ночь на дворе, идем. Идем, ну?
Мама решилась:
– Идемте.
Портной повел нас по темному городу. На перекрестках светились зеленые и красные огоньки. Мы шли, ничего не видя в темноте.
– Держитесь за меня! – говорил Кавсадзе. – Он свернул в ворота. – Сюда, пожалуйста, идите за мной. Мы пришли.
Двор был темный и, наверное, очень большой. Сквозь щели завешенных окон кое‑где пробивался свет. Портной стукнул в темную стеклянную дверь.
– Эй, Мираб! – крикнул он. – Это я, Бату!
В ярко освещенном прямоугольнике появился толстый человек с большим носом над усами, с густой шапкой пестрых от седины волос.
– Входите скорей, а то меня оштрафуют, – заторопил толстяк.
Едва мы вошли, хозяин тщательно завесил стеклянную дверь шерстяной занавеской. Мы очутились в комнате с широким низким диваном и огромным шкафом у белой стены. Пожилая женщина в черном платке хлопотала у печи, а за столом сидела чернокосая девочка со вздернутым носиком и что‑то писала. Девочка подняла голову и принялась меня разглядывать.
– Я нашел их, Мираб, возле вокзала, – сказал толстяку Кавсадзе. – Понимаешь, они ленинградцы и они первый раз в Тбилиси. Им нужен Гурамишвили.
– Гурамишвили я, – отрекомендовался толстяк.
Мама взглянула на низенький столик, заваленный сапожными инструментами, колодками и старой обувью, немного смутилась:
– Мне нужен художник Гурамишвили.
– А я Гурамишвили‑сапожник, – улыбнулся толстяк. – Познакомьтесь, пожалуйста, жена моя – Маро, дочка – Стэлла.
Жена сапожника вытерла полотенцем и протянула матери руку. У нее было широкое лицо с большими глазами, серыми, как у дочки.
– Значит, мы не туда попали? – растерянно спросила мама.
– Зачем «не туда»? – возразил толстяк. – Гурамишвили ищете? Гурамишвили – я.
– Но ведь вы не художник, – улыбнулась мама.
– Нет, зачем я художник! Я – художник в своем ремесле, – усмехнулся в усы толстяк. – Шалву Христофоровича вся Грузия знает. Но ночью к нему не попадешь, дорогая. Он живет за Курой, под горой Давида. Для хождения ночью нужны пропуска…
– Что же нам делать?
– Как «что»? Раздеваться, – решил за маму сапожник. – Отдыхать, кушать. Для ленинградцев в Тбилиси все двери открыты. Завтра утром я вас отведу за Куру.
– Но, право, это же неудобно, – возразила мать.
– Неудобно, удобно! А идти ночью по темным улицам удобно?.. Маро, Стэлла, помогите раздеться!
– Вот и отлично! – обрадовался Кавсадзе и даже крякнул от удовольствия, что все так устроилось.
Мама принялась благодарить портного. Он рассердился:
– За что благодаришь? Подарил тебе что‑нибудь, а? Не подарил. До свиданья! Желаю отдохнуть хорошенько.
Он ушел, потрепав по щеке девочку и сказав ей по‑грузински что‑то веселое – она звонко рассмеялась.
Жена сапожника постелила на стол чистую скатерть и поставила тарелки с едой.
– Садитесь, садитесь же! – приглашала она.
Мама, сбросив платок, откинула голову на спинку стула.
– Устала? – участливо спросил Гурамишвили.
– Да, – ответила мама. – Мы ведь ехали из Сибири.
– Слышишь, Стэлла? – воскликнул Мираб. – Ленинград – где, Сибирь – где, Тбилиси – где… столько ехать!.. Шалва Христофорович твой знакомый? – спросил он маму.
– Нет. Его сын – друг моего мужа.
– Серго друг мужа? Твой муж моряк?
– Да, моряк.
– Про Серго в газете, в «Коммунисти», писали, с портретом. Герои! Наш старший, Гоги, тоже воюет.
– Гоги служит в минометных частях, – сказала девочка, – и прислал нам письмо с Кубани. Правда?
– Да, он в минометных частях и прислал нам письмо с Кубани, – как эхо, повторил ее толстый отец. – Где карточка, Маро? Дай сюда карточку.
И он показал фотографию черноглазого паренька с небольшими усиками, в солдатской фуражке. Это был Гоги, брат Стэллы, минометчик.
– Он ушел на фронт, когда фашисты бомбили Тбилиси, – сказала Стэлла.
– Да, они раза два или три нас бомбили, – подхватил Мираб, – но не причинили большого вреда. Они хотели прорваться к нам через перевалы и наступить Грузии прямо на сердце! Уй, проклятые! Забрались на горы! А наш Гоги сам просился поскорее на фронт. И он медаль получил… Да ты кушай, дорогая! И ты кушай, мальчик. Тебя как зовут?.. Никита? Кушай, Никито, кушай!
Как хорошо было тут, в теплой, светлой комнате, после холодных, темных поездов!
Пока я с удовольствием ел, Стэлла продолжала меня разглядывать, хотя делала вид, что пишет. А Гурамишвили все угощал и требовал, чтобы все было съедено. Он открыл шкаф, достал два больших апельсина, ловко взрезал их острым ножичком и положил перед нами, словно два оранжевых цветка с распустившимися лепестками.
Стэлла спросила меня:
– Тебе сколько лет?
– Тринадцать.
– Не‑ет! – протянула она удивленно. – Я думала, больше. Ленинград красивый город? Я читала у Гоголя «Невский проспект», у Пушкина «Медный всадник».
Я принялся рассказывать ей о Ленинграде, и она часто восклицала: «Не‑ет!» Сначала я думал, что она мне не верит, но вскоре понял, что она говорит свое «не‑ет», когда чему‑нибудь удивляется. Она училась в шестом классе и показала мне свои тетради, где все было написано незнакомыми буквами – по‑грузински. И она даже написала по‑грузински «Никита», и я должен был ей поверить на слово, что написано именно «Никита», а не что‑нибудь другое.