В Греции в Софокло-Еврипидовское время состязание трагических актеров дало самостоятельную творческую деятельность актера. Потом, с развитием сценической техники, творческие силы актера пали. От усложнения техники, конечно, пала у нас самодеятельность актера. Оттого прав Чехов — «блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше»[85]. Освобождая актера от случайно нагроможденных лишних аксессуаров, упрощая технику до возможного минимума, Условный театр тем самым вновь выдвигает на первый план творческую самодеятельность актера. Направляя всю свою работу на возрождение Трагедии и Комедии (в первой выявляя Рок, во второй Сатиру), Условный театр избегает «настроений» Чеховского театра, выявление которых вовлекает актера в пассивные переживания, приучающие его быть творчески менее интенсивным.
Разбив рампу, Условный театр опустит сцену на уровень партера, а построив дикцию и движения актеров на ритме, приблизит возможность возрождения пляски, а слово в таком театре будет легко переходить в напевный выкрик, в напевное молчание.
Режиссер Условного театра ставит своей задачей лишь направлять актера, а не управлять им (в противоположность мейнингенскому режиссеру). Он служит лишь мостом, связующим душу автора с душою актера. Претворив в себе творчество режиссера, актер — один лицом к лицу с зрителем, и от трения двух свободных начал — творчество актера и творческая фантазия зрителя — зажигается истинное пламя.
Как актер свободен от режиссера, так и режиссер свободен от автора. Ремарка последнего для режиссера лишь необходимость, вызванная техникой того времени, когда пьеса писалась. Подслушав внутренний диалог, режиссер свободно выявляет его в ритме дикции и ритме пластики актера, считаясь лишь с теми ремарками автора, которые вне плана технической необходимости.
|
|
Условный метод, наконец, полагает в театре четвертого творца, после автора, режиссера и актера; это — зритель. Условный театр создает такую инсценировку, при которой зрителю приходится своим воображением творчески дорисовывать данные сценой намеки [86].
Условный театр таков, что зритель «ни одной минуты не забывает, что перед ним актер, который играет, а актер — что перед {142} ним зрительный зал, под ногами сцена, а по бокам — декорации. Как в картине: глядя на нее, ни на минуту не забываешь, что это краски, полотно, кисть, а вместе с тем получаешь высшее и просветленное чувство жизни. И даже часто так: чем больше картина, тем сильнее чувство жизни »[87].
Условная техника борется с иллюзионарным приемом. Ему не нужна иллюзия, как аполлиническая греза. Условный театр, фиксируя статуарную пластичность, закрепляет в памяти зрителя отдельные группировки, чтобы проступили мимо слов роковые ноты трагедии.
Условный театр не ищет разнообразия в mise en scène[88], как это всегда делается в Натуралистическом театре, где богатство планировочных мест создает калейдоскоп быстро меняющихся поз. Условный театр стремится к тому, чтобы ловко владеть линией, построением групп и колоритом костюмов, и в своей неподвижности дает в тысячу раз больше движения, чем Натуралистический театр. Движение на сцене дается не движением в буквальном смысле слова, а распределением линий и красок, а также тем, насколько легко и искусно эти линии и краски скрещиваются и вибрируют.
|
|
Если Условный театр хочет уничтожения декораций, поставленных в одном плане с актером и аксессуарами, не хочет рампы, игру актера подчиняет ритму дикции и ритму пластических движений, если он ждет возрождения пляски — и зрителя вовлекает в активное участие в действии, — не ведет ли такой Условный театр к возрождению Античного?
Да.
Античный театр по своей архитектуре есть именно тот самый театр, в котором есть все, что нужно нашему сегодняшнему театру: здесь нет декораций, пространство — трех измерений, здесь нужна статуарная пластичность.
В архитектуру такого театра будут, конечно, внесены незначительные поправки согласно требованиям наших дней, но именно Античный театр с его простотой, с его подковообразным расположением мест для публики, с его орхестрой — тот единственный театр, который способен принять в свое лоно желанное разнообразие репертуара: «Балаганчик» Блока, «Жизнь Человека» Андреева, трагедии Метерлинка, пьесы Кузмина, мистерии Ал. Ремизова, «Дар мудрых пчел» Ф. Сологуба и еще много прекрасных пьес новой драматургии, еще не нашедших своего Театра.
{143} К постановке «Тристана и Изольды»
на Мариинском театре 30 октября 1909 года[89]
(1909 г.)[cxlvii]
I
Если отнять у оперы слово, представляя ее на сцене, мы получим, в сущности, вид пантомимы.
В пантомиме же каждый эпизод, все движения этого эпизода (его пластические модуляции), как и жесты отдельных лиц, группировка ансамбля — точно предопределены музыкой — модификацией ее темпов, ее модуляцией, вообще — ее рисунком.
|
|
В пантомиме ритмы движений, жестов и ритм группировок строго слиты с ритмом музыки; и только при достижении этой слитности ритма представляемого на сцене с ритмом музыки пантомима может считаться идеально выполненной на сцене.
Почему же оперные артисты в движениях своих и жестах не следуют с математической точностью темпу музыки — тоническому рисунку партитуры?
Разве прибавленное пантомимным артистам пение меняет существующее в пантомиме взаимоотношение между музыкой и инсценировкой?
Происходит же это, я думаю, оттого, что игру свою оперный артист создает преимущественно в плане материала, извлекаемого им не из партитуры, но из либретто.
Материал же этот в большинстве случаев настолько жизненен, что дает соблазн к приемам, уподобляющимся приемам игры бытового театра. И смотря по времени: если оперная сцена переживает вместе с драматическим театром тот период, когда царит жест условной красивости, напоминающий марионетку, которую двигают только для того, чтобы она казалась живой, — игра оперных артистов этого периода условна, как была условна игра французских актеров эпохи Расина и Корнеля; если же оперная сцена переживает с драматическим театром время увлечения натурализмом, игра актеров становится близкой к действительной {144} жизни, и место условных «оперных жестов» заступает жест-автомат, очень реальный; это жест рефлекторной привычки, им сопровождаем мы в повседневной жизни наши разговоры.
В первом случае разлад между ритмом, диктуемым оркестром, и ритмом жестов и движений почти неощутим (хотя эти жесты неприятно сладки, пряно красивы, глупо марионеточны, — все же они соритмичны); разлад их лишь в том, что движению не придана осмысленность и строгая выразительность, как того требовал Вагнер, например. Зато во втором случае разлад этот невыносим: во-первых, потому, что музыка становится в дисгармонию с реальностью жеста-автомата, жеста повседневности, и оркестр, как в плохих пантомимах, превращается в аккомпаниатора, играющего ритурнели, рефрен; во-вторых, потому, что происходит роковая раздвоенность зрителя: чем лучше игра, тем наивнее самая сущность оперного искусства; в самом деле, уже одно то обстоятельство, что люди, ведущие себя на сцене как вызванные из жизни, вдруг начинают петь, — естественно, кажется нелепым. Недоумение Л. Н. Толстого при виде поющих людей[cxlviii] объясняется просто: пение оперной партии, сопровождаемое реальным исполнением роли, неминуемо вызовет у чуткого зрителя усмешку. В основе оперного искусства лежит условность — люди поют; нельзя поэтому вводить в игру элемент естественности, ибо условность, тотчас же становясь в дисгармонию с реальным, обнаруживает свою якобы несостоятельность, то есть падает основа искусства. Музыкальная драма должна исполняться так, чтобы у слушателя-зрителя ни одной секунды не возникало вопроса, почему эту драму актеры поют, а не говорят.
Образцом такой интерпретации ролей, когда у слушателя-зрителя не является вопроса: «почему актер поет, а не говорит», — может служить творчество Шаляпина.
Он сумел удержаться как бы на гребне крыши с двумя уклонами, не падая ни в сторону уклона натурализма, ни в сторону уклона той оперной условности, которая пришла к нам из Италии XVI века, когда для певца важно было в совершенстве показать искусство производить рулады, когда отсутствовала всякая связь между либретто и музыкой.
В игре Шаляпина всегда правда, но не жизненная, а театральная. Она всегда приподнята над жизнью — эта несколько разукрашенная правда искусства.
У Бенуа[90] в «Книге о Новом театре» есть: «герой может погибнуть, но и в этой погибели важно, чтобы чувствовалась сладость улыбки божества»[cxlix]. Эта улыбка чувствуется в развязках некоторых трагедий Шекспира («Лир», например), у Ибсена в момент гибели Сольнеса Хильда слышит «арфы в воздухе», Изольда {145} «тает в дыхании беспредельных миров». Эта же «сладость улыбки божества» чувствуется в смерти Бориса у Шаляпина. Да и один ли только момент гибели озаряется у Шаляпина «улыбкой божества»? Достаточно вспомнить сцену у собора («Фауст»), где Мефистофель — Шаляпин является отнюдь не торжествующим духом зла, но пастором-обличителем, как бы скорбящим духовником Маргариты, — голосом совести. Таким образом, недостойное, уродливое, низкое (в шиллеровском смысле) чрез шаляпинское преображение являются предметом эстетического наслаждения.
Далее, Шаляпин — один из немногих художников оперной сцены, который, точно следуя за указаниями нотной графики композитора, дает своим движениям рисунок. И этот пластический рисунок всегда гармонически слит с тоническим рисунком партитуры.
В качестве иллюстрирующего примера синтеза пластической ритмики и ритмики музыкальной может служить интерпретация Шаляпиным шабаша на Брокене (опера Бойто[cl]), где ритмичны не только движения и жесты Мефистофеля — вождя хоровода, но даже в напряженной неподвижности (словно окаменелости) исступления слушатель-зритель угадывает ритм, диктуемый оркестровым движением.
Синтез искусств, положенный Вагнером в основу его реформы музыкальной драмы, будет эволюировать — великий архитектор, живописец, дирижер и режиссер, составляющие звенья его, будут вливать в Театр Будущего все новые и новые творческие инициативы свои, но, разумеется, синтез этот не может быть осуществленным без прихода нового актера.
Такое явление, как Шаляпин, впервые предуказало актеру музыкальной драмы единственный путь к величественному зданию, воздвигнутому Вагнером.
Но большинство проглядело в Шаляпине то именно, что должно считаться идеалом оперного артиста; театральная правда шаляпинского творчества понята была как жизненная правда, — показалось, что это — натурализм. Произошло же это вот почему: выступление Шаляпина на сцене (в частной опере Мамонтова) совпало с господством Московского Художественного театра первого периода (мейнингенство).
Свет такого значительного явления, как Московский Художественный театр, был настолько силен, что под лучами его мейнингенской манеры творчество Шаляпина было истолковано как натуралистический прием, введенный в оперу.
Режиссер и актеры оперного театра думали, что они идут по стопам Шаляпина, когда в «Фаусте» Маргарита в песенке о Фульском короле на фоне оркестра, где так кстати звучит прялка, поливала клумбу цветов из садовой лейки…
Для актера музыкальной драмы творчество Шаляпина такой же родник, как жертвенник Диониса для трагедии.
{146} Но актер музыкальной драмы лишь тогда станет великим звеном вагнеровского синтеза, когда он творчество Шаляпина поймет не под лучами Московского Художественного театра, где игра актеров основана на законах μίμησις[91], но под лучами всемогущего ритма.
Переходя далее к движению актеров музыкальной драмы в связи с ее характеристикой, замечу попутно, что в мои намерения не входил подробный анализ манеры игры Шаляпина, о котором я упомянул лишь для того, чтобы легче было понять, о каком искусстве оперного актера идет речь.
Начинаю же с движений и жестов актеров потому, что инсценировка музыкальной драмы должна быть создаваема не сама по себе, а в связи с этими движениями, как эти последние должны быть расположены в зависимости от партитуры.
В методе инсценировки мало различать две крупные разновидности. Приняв Глюка праотцом музыкальной драмы, мы имеем два разветвления, две линии: одна — Глюк — Вебер — Вагнер; другая — Глюк — Моцарт — Бизе.
Считаю долгом оговориться, что инсценировке, подобной той, о которой речь ниже, поддаются музыкальные драмы типа Вагнера, то есть те, в которых либретто и музыка созданы без взаимного порабощения.
Драматическая концепция музыкальных драм, чтобы начать жить, не может миновать сферы музыкальной, тем самым она во власти таинственного мира наших чувствований; ибо мир нашей Души в силах проявить себя лишь через музыку, и, наоборот, одна только музыка в силах во всей полноте выявить мир Души.
Черпая свое творчество из недр музыки, конкретный образ этого творчества автор музыкальной драмы оживляет в слове и тоне, и так возникает партитура — словесно-музыкальный текст.
Аппиа («Die Musik und die Inszenierung»)[cli] не видит возможности прийти к драматической концепции иначе, как сначала повергнув себя в мир эмоций, — в музыкальную сферу.
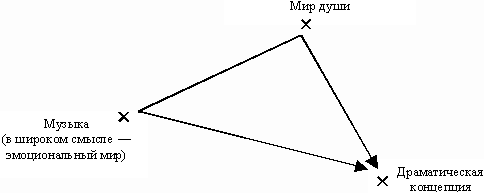
{147} Правый ход Аппиа не считает возможным; драматическая концепция, созданная без хода через музыку, дает негодное либретто.
И еще, как наглядно Аппиа определяет взаимоотношения элементов оперного театра:
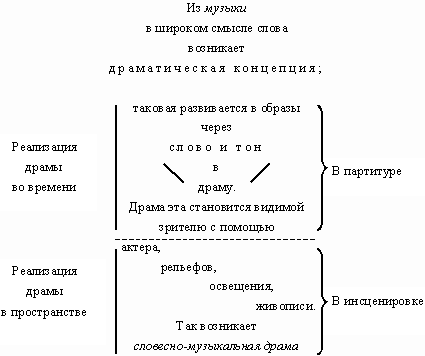
Музыка, определяющая время всему происходящему на сцене, дает ритм, не имеющий ничего общего с повседневностью. Жизнь музыки — не жизнь повседневной действительности. «Жизнь не такая, как она есть, не такая, какой должна быть, а как она представляется в мечтах» (Чехов)[clii].
Сценический ритм, вся сущность его — антипод сущности действительной, повседневной жизни.
Поэтому весь сценический облик актера должен явиться художественной выдумкой, иногда, быть может, и опирающейся на реалистическую почву, но в конечном счете представшей в образе, далеко не идентичном тому, что видим в жизни. Движения и жесты актера должны быть в pendant[92] к условному разговору-пению.
{148} Мастерство актера натуралистической драмы — в наблюдении жизни и в перенесении элементов наблюдения в свое творчество; мастерство актера музыкальной драмы не может подчинить себя одному лишь опыту жизни.
Мастерство актера натуралистической драмы находится в большинстве случаев в подчинении произволу его темперамента. Партитура, предписывающая определенный метр, освобождает актера музыкальной драмы от подчинения произволу личного темперамента.
Актер музыкальной драмы должен постичь сущность партитуры и перевести все тонкости оркестрового рисунка на язык пластического рисунка.
И вот актеру музыкальной драмы предстоит добиться мастерства в телесной гибкости.
Тело человеческое — гибкое, подвижное, став в ряды «выразителей» вместе с оркестром и обстановкой, начинает принимать активное участие в сценическом движении.
Человек вместе с согармонической обстановкой и соритмичной музыкой являет собой уже произведение искусства.
В чем же тело человеческое, гибкое для служения сцене, гибкое в своей выразительности, достигает высшего своего развития?
В танце.
Ибо танец и есть движение человеческого тела в ритмической сфере. Танец для нашего тела то же, что музыка для нашего чувства: искусственно созданная, не обращавшаяся к содействию познания форма.
Музыкальную драму Рихард Вагнер определил как «симфонию, которая становится видимой, которая уясняется в видимости и понятном действии» («ersichtliehgewordene Thaten der Musik»). Симфония же для Вагнера ценна заключенной в ней танцевальной основой. «Гармонизированный танец — основание современной симфонии», — замечает Вагнер. Седьмую (A-dur) симфонию Бетховена он называет «апофеозом танца».
Итак, «видимое и понятное действие» — а его выявляет актер — есть действие танца.
Раз корнем жестов для музыкальной драмы является танец, то оперные артисты должны учиться жесту не у актера бытового театра, но у балетмейстера[93].
«Музыкальное и поэтическое искусства становятся понятными… лишь через танцевальное искусство» (Вагнер).
Там, где слово теряет силу выразительности, начинается язык танца. В старояпонском театре на так называемой «Но»‑сцене, где разыгрывались пьесы наподобие наших опер, актер обязательно был вместе с тем и танцовщиком.
{149} Помимо гибкости, делающей оперного певца в своих движениях танцовщиком, еще одна особенность отличает актера музыкальной драмы от актера драмы словесной. Актер последней, желая показать, что воспоминание причинило ему боль, мимирует так, чтобы показать зрителю свою боль. В музыкальной драме об этой боли может рассказать публике музыка.
Таким образом оперный артист должен принять принцип экономии жеста, ибо жестом ему надо лишь дополнять пробелы партитуры или дорисовывать начатое и брошенное оркестром.
В музыкальной драме актер не единственный элемент, образующий звено между поэтом и публикой. Здесь он лишь одно из выразительных средств, не более и не менее важное, чем все другие средства выражения, а потому ему и надлежит встать в ряды своих собратьев-выразителей.
Но, конечно, прежде всего через актера музыка переводит меру времени в пространство.
До инсценирования музыка создавала картину иллюзорно лишь во времени, в инсценировке музыкой побеждено пространство. Иллюзорное стало реальным через мимику и движения актера, подчиненные музыкальному рисунку; овеществлено в пространстве то, что витало лишь во времени.
II
Говоря о «театре будущей эпохи», театре, который должен явиться «союзом всех искусств», Вагнер называет Шекспира (того периода, когда он не выходил еще из «товарищества») «Фесписом трагедии будущего» («как тележка Фесписа относится к театру Эсхила и Софокла, так будет относиться и театр Шекспира к театру будущей эпохи»); о Бетховене[94] же говорит — вот кто нашел язык будущего художника.
И вот Вагнер видит Театр Будущего там, где эти поэты протянут друг другу руки.
И еще, Вагнер особенно четко занес на листы своих письмен грезу: «поэт найдет свое искупление» там, где «мраморные творения Фидия оденутся в плоть и кровь».
В шекспировском театре дорого Вагнеру, во-первых, то, что труппа составляла то идеальное товарищество, которое являло собой υιασος[95] в платоновском смысле («eine besondere Art von ethischer Gemeinschaftsform»[96], по выражению Th. Lessing’а: «Theater-Seele», Studie über Bühnenästhetik und Schauspieikunst[97]). {150} Во-вторых, в шекспировском театре Вагнер видел приближение к образцу всенародного искусства: «Драма Шекспира является столь верным изображением мира, что в артистическом воспроизведении идей невозможно различить в них субъективной стороны поэта». В творчестве Шекспира, по мнению Вагнера, звучала душа народа.
Так как я поставил основой своей темы план технический, то в указании Вагнером (при его влюбленности в античный мир) на Шекспира, как на образец, достойный подражания, я отмечу следующее.
В простоте архитектоники шекспировской сцены Вагнеру нравилось то, что актеры театра Шекспира играли на сцене, со всех сторон окруженные зрителями. Вагнер называет (очень метко и остроумно) передний план сцены староанглийского театра «der gebärende Mutterschoß der Handlung»[98].
Но ведь не авансцену же ренессансного театра, которой так широко пользовались итальянские певцы, мог считать Вагнер повторением любопытной формы староанглийской сцены?!
Конечно, нет. Во-первых, Вагнер преклонялся перед формой античного театра, где тот план, который мог бы напомнить нашу авансцену (орхестра), занят у Вагнера скрытым оркестром[99]; а, во-вторых, предлагая возвести человека в культ и мечтая о пластическом преображении его на сцене, Вагнер, конечно, не мог считать авансцену наших театров удобным местом для группировок, основанных на принципе пластического преображения, и вот как представляет себе Вагнер это преображение:
«Когда человек… даст прекрасное развитие своему телу, тогда объектом искусства должен, несомненно, стать живой, совершенный человек. Но желанным искусством последнего является драма. Поэтому искуплением пластики будет волшебное превращение камня в мясо и кровь человека, превращение неподвижного — в оживленное, монументального — в современное. Лишь когда творческие стремления перейдут в душу танцора, мима, певца и драматического артиста, можно надеяться на удовлетворение этих стремлений. Настоящая пластика будет существовать тогда, когда скульптура прекратится и претворится в архитектуру, когда ужасное одиночество этого одного человека, высеченного из камня, сменится бесконечным множеством живых действительных людей, — когда мы будем вспоминать о дорогой мертвой скульптуре в вечно обновляющемся одухотворенном мясе и крови, а не в мертвой меди или мраморе, когда мы соорудим из камня театральные {151} подмостки для живого произведения искусства и уже не будем стараться выразить в этом камне живого человека» (Вагнер).
Вагнер отвергает не только скульптуру, но и портретную живопись: «ей нечего будет делать там, где прекрасный человек в свободных художественных рамках, без кисти и полотна, явится объектом искусства».
И вот Вагнер взывает к архитектуре. Пусть архитектор поставит себе задачей построить здание театра так, чтобы человек был «объектом искусства для самого себя». Как только живой образ человека превращается в единицу пластическую, так тотчас же всплывает проблема новой сцены (в смысле ее архитектуры).
На протяжении всего XIX века проблема эта по временам всплывает, особенно в Германии.
Вот что говорит глава романтической школы Людвиг Тик в письме своем к Раумеру (передаю содержание, не цитируя): я уж не раз говорил с вами о том, что считаю возможным найти средства для переустройства сцены так, чтобы приблизить ее по своей архитектонике к староанглийской сцене. Но для этого наши сцены должны бы быть, по крайней мере, в два раза шире тех, к которым мы привыкли. Давно следовало бы оставить глубину сцены, так как она делает подмостки антихудожественными и антидраматическими.
Для «выходов» и «уходов» следовало бы использовать не глубину сцены, а боковые кулисы — иными словами, следовало бы повернуть сцену другою стороною к публике, — поставить в профиль все то, что нам представляется en face[100].
«Театры глубоки и высоки, вместо того, чтобы быть широкими и неглубокими, наподобие барельефа». Тик полагал, что староанглийская сцена имела некоторое сходство с греческой. Ему нравилось в ней то, что, во-первых, она обо всем лишь намекала; во-вторых, то, что сцена (в тесном смысле слова) была впереди; все то, что можно бы было назвать нашими кулисами, представляло зрителю действие в непосредственной близости; и фигуры актеров, находившихся на подмостках, ни на секунду не терялись у зрителей из виду, как фигуры на цирковой арене.
Вопрос о том, как бы поместить живопись и фигуры человеческие в разные планы, очевидно, усиленно занимает знаменитого архитектора-классика Шинкеля (1781 – 1841), так как и он предлагает образцы новой сцены, которые совпадают с мечтой Вагнера видеть «ландшафтную живопись», как отдаленный задний план, подобно тому, как в древнегреческом театре эллинский пейзаж был отдаленным фоном. «Природа была для грека лишь рамками для человека — и боги, олицетворявшие, по греческому представлению, силы природы, были именно человеческими богами. {152} Всякое явление природы грек стремился облечь в человеческий вид, и природа имела для него бесконечную привлекательность лишь в образе человека…»
«Ландшафтная живопись должна стать душою архитектуры; она научит нас устроить сцену для драмы будущего, в которой сама она представит живые рамки природы для живого, а не скопированного человека».
«То, что скульптор и исторический живописец старались создать на камне и на полотне, актер создаст теперь на себе, на своей фигуре, на членах своего тела, отпечатлеет на чертах своего лица для сознательной художественной жизни. Те же мотивы, которые руководили скульптором, передававшим формы человека, руководят теперь актером — его мимикой. Глаз, помогавший историческому живописцу находить самое лучшее, привлекательное и характерное в рисунке, красках, одеждах и распланировке групп, регулирует теперь распланировку живых людей» (Вагнер).
Из того, что высказал Вагнер по поводу места живописи на сцене — о переднем плане в руках архитектора, о художнике, которого он зовет в театр не для одной живописи (она имеет место лишь как Hintergrund[101]), но и для режиссуры; из того, что в других местах Вагнер пишет о Stimmung[102] во всем, что касается освещения, линий, красок, о крайней необходимости хорошо видеть чеканку движений и жестов актера, его мимики, об акустических условиях, выгодных для декламации актера, из всего этого ясно, что байрейтская сцена[cliii] не могла удовлетворить подобного рода требованиям Вагнера, ибо она еще не окончательно порвала связь с традициями ренессансной сцены, а главное, режиссеры, инсценировавшие Вагнера, не считали нужным принимать во внимание основной взгляд этого реформатора на сцену как на пьедестал для скульптуры.
III
Осуществить мечту Тика, Иммермана, Шинкеля, Вагнера — мечту возрождения характерных особенностей античной и староанглийской сцен — взял на себя Георг Фукс в Мюнхене[cliv] («Künstlertheater»)[103].
Особенность этой сцены та, что передний план рассчитан лишь на рельефы.
Под рельефами подразумеваются пратикабли в широком смысле (дословный перевод французского «praticable» и немецкого {153} «praktikabel» — годный к употреблению); следовательно, это не только те части живописи, написанные отдельно от «проспекта», которые служат исключительно целям живописным — усилить эффект перспективы или усилить свет на проспекте (в каковом случае за пратикаблями ставятся электрические «бережки»); термин «рельеф» называют здесь и не в том узком значении, какое придал ему Московский Художественный театр, где «рельефами» называют лепные части, прибавленные к писаной декорации для усиления иллюзии настоящего.
Пратикабли-рельефы — это те части материала, дополнительного к декорациям, которые не иллюзорны для глаз зрителя, но овеществлены; они дают актеру возможность прикасаться к ним — служат как бы пьедесталом для скульптуры. Таким образом, первый план, превращенный в «рельеф-сцену» и сильно отдаленный от живописи, поставленной во втором плане, дает возможность избежать той обычной неприятности для эстетического вкуса зрителя, когда тело человеческое (три измерения) стоит рядом с живописью (два измерения), — неприятности, которая еще возрастает, когда противоречие между фиктивной сущностью декораций и тем «настоящим», что вносит на сцену своим телом актер, стараются смягчить введением рельефа в самую картину, то есть в тех случаях, когда живопись, являясь не только как Hintergrund, но находясь и на переднем плане, попадает в одну плоскость с рельефами. «Вводить рельеф в картину, вводить музыку в чтение, живопись в скульптуру — все это такие промахи против “хорошего вкуса”, которые коробят эстетическое чувство» (Бенуа).
Для того чтобы выявить этот принцип «рельеф-сцены», Георгу Фуксу пришлось заново выстроить театр.
Вынужденные работать на сцене типа ренессансного театра и желая испробовать столь подходящий для инсценировки вагнеровских драм метод деления сцены на два плана («сцена-рельеф» — первый, «живопись» — второй), мы сразу сталкиваемся с одним громадным препятствием, которое заставляет всеми силами души ненавидеть конструкцию ренессансной сцены.
Авансцена, которая в доброе старое время служила для выхода артистов с их ариями ближе к публике (будто концертная эстрада для исполнения певцом романса, ничем не связанного ни с предыдущими, ни с последующими номерами концерта), — эта авансцена, которая сделалась лишним местом после исчезновения певцов-кастратов и певиц, проделывавших гимнастические рулады (да простят мне колоратурные сопрано, что я не считаю их в кругу того театра музыкальной драмы будущего, о котором идет речь), — авансцена, которую покинул современный оперный актер, так как либретто, уже не стоящее отдельно, как в старых итальянских операх, обязывает его плести сеть сценического действия вместе со своими партнерами, — авансцена эта, так сильно выдвинутая вперед, к сожалению, не может быть использована как «сцена-рельеф», так как она вынесена перед занавесом, и это {154} обстоятельство не позволяет воспользоваться ею как планировочным местом.
Эта неприятность принудила нас создать «сцену-рельеф»[104] не на авансцене, а на первом плане и, таким образом, «сцена-рельеф» не находится в той желанной близости к публике, чтобы мимическая игра и пластические движения актеров были заметнее.
Сцена ренессансного театра — коробка с вырезанным в одной стенке «окном», обращенным к зрителю (низ коробки — пол сцены, боковые части коробки — боковые части сцены, скрытые кулисами, крышка коробки — верх сцены, невидимый зрителю).
Нет достаточной ширины (боковые стенки коробки не отнесены далеко от краев окна ее), чтобы не надо было закрывать ее боковых стенок от взоров публики, развешивая по бокам тряпки (кулисы); нет достаточной высоты, чтоб обойтись без портальных сукон и «падуг».