Древние фильмы чаще всего были двухмерными двухчасовыми историями. Их темы могли быть какими угодно — про колдунов и нечисть, которой молились и поклонялись люди до прихода Антихриста, про одинокого героя в поисках денег, про любовь и сопутствующую ей смерть, про жителей бетонного ада, пытающихся продать большому городу свой усталый секс, про космические демократуры и диктатории, и так далее.
Хлоя смотрела фильмы выпучив глаза, но сам Грым быстро потерял к ним интерес. Возможно, мешало то, что он услышал от Бернара-Анри. Ему и правда трудно было осуществить внутренний волевой акт, который тот назвал «suspend disbelief». Даже если Грым сознательно пытался отбросить недоверие, идиотизм происходящего на маниту неизменно возвращал это чувство назад. Особенно неприятными были секунды, когда сквозь картинку просвечивали интенции создателей.
Древний человек был счастливым ребенком — он мог поверить в реальность наскальных изображений, вокруг которых танцевал с копьем, или в придуманные и разыгранные другими истории, снятые двухмерной пленочной камерой и кое-как подкрашенные электронной косметикой на тихоходном маниту.
А Грым уже не мог этого сделать. Он знал, что наваждение может быть каким угодно, и цена ему грош. Смотреть Древние Фильмы было неинтересно — как будто зараженный ложью свет, пойманный когда-то пленкой, успел за века протухнуть в круглых жестяных коробках, где хранились ее рулоны. Любой сон был в сто раз интересней и реальней, потому что за ним стояли не расчетливо лгущие люди, а великолепно непоследовательный Маниту.
Существовала еще одна причина, по которой старинные истории было неприятно смотреть.
Люди на экране все время попадали в тяжелые и неловкие ситуации. Они испытывали (вернее, изображали) унижение, неловкость и страх. Было понятно — так устроено, чтобы у действия было какое-то логическое обоснование, энергия развития, и сюжет мог двигаться дальше. Но Грыму было наплевать на логику экранного вранья — принимать ее всерьез могли только проплаченные киномафией критики. На его взгляд, лучше бы древние тени действовали без всякой причины вообще, чем вытягивали ему кишки своим инженерным драматизмом.
Изображаемые актерами негативные эмоции перекидывались на его душу не потому, что он им верил, а просто по закону резонанса. Каждый раз, когда герои попадали в очередное муторное положение, Грым непроизвольно нажимал паузу: таким способом можно было остановить собственную муку, которая, в отличие от фальшивой экранной, была настоящей. Выходило, что он мучается даже не вместе с героями, а вместо них.
Архаичный человек, видимо, не просто верил в реальность того, что видел, но и питался чужим фальшивым страданием — или каким-то образом использовал его, чтобы привести себя в порядок перед новым рабочим днем. А Грым, хоть и не верил в происходящее, нажимал паузу так часто, что на просмотр двухчасовой мелодрамы тратилась целая ночь. Хлоя обычно уходила от него к другому маниту.
В общем, сгоревшая в ядерном огне древность надоела Грыму очень быстро — и он не мог взять в толк, почему хранилище старых фильмов считается на Биг Бизе чуть ли не главной религиозной святыней.
Другая возможность, которую давал маниту, была куда важнее. Теперь он мог смотреть полностью любые снафы — без всякой военной цензуры и оркского духовного надзора.
Он выяснил наконец, что значит это слово, о смысле которого умалчивала даже «Свободная Энциклопедия», не говоря уже о школьных учебниках. Помогли экранные словари. Сокращение «S. N. U. F. F.» расшифровывалось так:
Special Newsreel/Universal Feature Film.
Это можно было примерно перевести как «спецвыпуск новостей/универсальный художественный фильм», но были и другие оттенки значения. Например, выражение «Universal Feature Film» в древности означало «фильм студии «Юниверсал», и только позже стало употребляться в значении «универсальное произведение искусства». Слово «universal» имело также религиозные коннотации, связанные со словом «Вселенная». Но в это Грым пока не лез.
Косая черта в расшифровке называлась «жижик» в честь какого-то легендарного европейского мыслителя. Она, как объяснял словарь, разделяла частное и общее, которые дополняли друг друга.
Этот «жижик» нес, похоже, чуть ли не большую смысловую нагрузку, чем сами слова. Посвященная ему статья в экранном словаре была набрана мелким шрифтом для умных и называлась:
Дихотомия «special-universal» как Инь-Гегельянь.
Читать это Грым не стал, но уважением проникся.
Подобных материалов про снафы в словарях и энциклопедиях были десятки, если не сотни. Несметные толпы человеческих дискурсмонгеров спешили вежливо и качественно обслужить это звучное сокращение — видимо, за это полагались щедрые чаевые.
Грым выяснил, что слово SNUFF на самом деле очень старое, и употреблялось еще в интернет-срачах эпохи Древних Фильмов в значении «запредельно волнующего актуального искусства» (одно из примечаний разъясняло эту дефиницию так: порнофильм с заснятым на пленку настоящим убийством). Мелкий шрифт пояснял, что, по мнению ряда лингвистов, современную расшифровку приделали уже в новые времена, как и к слову GULAG — когда люди, воюя с орками, ощутили необходимость объявить себя единственными наследниками великого прошлого.
Жижик, как бы деливший снаф на две части, полностью соответствовал его внутренней структуре.
Ровно половину экранного времени в снафе занимал секс.
Им занимались немолодые, хоть и довольно привлекательные еще мировые знаменитости вроде покойного фон Триера и его многолетней партнерши де Аушвиц. Происходящее снималось на целлулоидную пленку подробно, во всех анатомических деталях. Грым с детства знал почти всех актеров в лицо — но никогда до этого времени не видел их полностью голыми из-за оркского духовного надзора, прятавшего экранную эротику под своими заставками.
Увидев так тщательно скрываемое, Грым подумал, что отвратить от греха было бы куда легче, показав его во всех подробностях.
Другую половину экранного времени занимала смерть.
Эта часть снафов состояла из военных хроник, которых Грым раньше тоже не видел полностью — уже из-за военной цензуры Биг Биза.
И эти хроники его просто потрясли.
Он увидел лица каганов древности. Он увидел флаги, выцветшие обрывки которых хранились в Музее Предков. Он увидел, как гибли герои, от которых в его мире сохранились только одинаковые посмертные портреты, покрытые бурой коркой документы и сбереженные матерями распашонки — пожелтевшие и съежившиеся от времени.
На каждую войну орки надевали новую форму, часто несколько ее разновидностей. Были войны туник, войны шортов, войны черных кожаных упряжей и войны строгих костюмов. Были войны, похожие на гей-парады, и войны, напоминающие их разгон. У людей одежда менялась не так сильно, зато на всякую войну они выходили с новым оружием и машинами.
Больше всего Грыма поразили танки, которые он уже видел в Древних Фильмах. Примерно два столетия назад люди построили около пятидесяти штук по сохранившимся чертежам и применили их против орков. Танки оказались настолько смертоносны, что даже не оставили после себя памяти в народной молве — некому было плодить слухи. Демографическую яму пришлось восполнять искусственным осеменением, с которым помогли после перемирия люди (так называемый «девчачий призыв» — его теперь проходили в школе как пример женского военного героизма).
Именно в битве с танками великий маршал Жгун и погубил почти миллион орков. Теперь Грым мог увидеть это сражение собственными глазами с начала до конца.
Маршал, сидя на белой лошади, без конца отдавал приказ к атаке. Орки бежали вперед, и каждый человеческий танк превращался в комок облепивших его тел.
Потом этот комок долго елозил на месте, перемалывая героев в кровавый фарш. Выстрел из танковой пушки вообще сметал целый оркский отряд. Вслед за этим маршал Жгун давал приказ идти в новую атаку, и ворота цирка засасывали новую порцию оркского мяса. Хоть его доставка была организована идеально, понадобилось много дней, чтобы ворота цирка смогли пропустить всех участников драмы, и потом войны не было целых три года.
У людей эпоха «девчачьего призыва» называлась «the monotank years» из-за того, что три года во всех снафах пришлось повторять разные ракурсы одной и той же съемки.
Съемка в тот раз действительно вышла монотонной, потому что люди не применяли летающих стен, снимая панораму танкового сражения с большой высоты. Первые полчаса смотреть этот снаф (во всяком случае, его военную составляющую) было интересно и страшно. А потом осталась только тошнота, нараставшая при каждом близком ракурсе, который давали пикирующие камеры. Они по-очереди падали с неба, чтобы пронестись между ворочающимися в красной жиже махинами и взмыть вверх для нового крупного плана.
Панорамы танкового боя перемежались постельными сценами, совсем не вызывающими сопереживания — человеческая культура сделала с тех пор несколько полных оборотов, и актеры воплощали давно устаревший тип половой привлекательности. Грыму были одинаково противны бритоголовый пузатый мужчина с загадочной улыбкой на лице и цветочной гирляндой поверх оранжевых риз и пугливая увядающая женщина с небритым лобком, вытатуированными вокруг сосков звездами и гривой волнистых волос. Им было уже лет по двести минимум, и это ощущалось — не помогал даже глиняный чайник, который мужчина брал в руку при каждой смене позы, и шкура тигра, на которой происходило соитие.
Хоть оружие у людей менялось, оркская тактика оставалась той же самой: сначала водрузить флаг на Кургане Предков, а потом, разделившись на три направления, отражать атаки с центрального фронта и флангов, пока люди не отснимут нужный материал. Наверно, такой способ ведения боя выбрали потому, что его можно было без особого труда век за веком вбивать в голову даже оркским военным.
С точки зрения монтажа или сюжета снафы были примитивнее и проще, чем фильмы древности. Но смотреть их было куда интересней — и самый скучный снаф захватывал сильнее, чем самый увлекательный фильм.
Грыму казалось, что свет, который запечатлел недавнюю историю на храмовый целлулоид, все еще был живым и свежим, и до сих пор летел где-то в пространстве — в отличие от мертвого света Древних Фильмов, угасшего навсегда. Великие битвы, проплывавшие по экрану, были настоящими. Цирк тоже — Грым только что прошел сквозь него сам, и просто поразительно было, как мало изменилось за века.
В Древних Фильмах все было враньем и игрой. А в снафах все было правдой. И не потому, что за века люди стали честнее.
Любовь и смерть имели такую природу, что заниматься ими понарошку было невозможно. Не играло роли, верят ли участники процедуры в то, чем заняты — важно было, что это действительно с ними происходит. Спариваться и умирать можно было только всерьез, хоть в домашнем уединении, хоть перед сотней камер на арене. Поэтому «отбрасывать недоверие», как говорил покойный Бернар-Анри, уже не было необходимости.
«Юность великих цивилизаций, — объяснял неведомый философ из экранного словаря, — характеризуется расцветом представительских форм правления. Зрелость — строительством Цирка, который на разных стадиях общественного развития может быть как информационно-виртуальным, так и материально-физическим. Медиакратуры прошлого были непрочными, потому что угнетали человека, ограничивая либидо и мортидо. Маниту Антихрист запретил это под страхом любви и смерти…»
Сюжетный зародыш, присутствовавший в каждом снафе, был малосуществен — и все же чем-то они походили на мелодрамы древних времен. Часто они рассказывали историю двух влюбленных. Это могла быть трагическая любовь между человеком и орком — такие снафы Грым смотрел в первую очередь.
«Орк» был загримирован под юношу или девушку подчеркнуто дикого вида, с обязательно торчащей из волос соломой (сначала Грым думал, что это пропагандистский выпад против его народа, но потом догадался, что это скорее символическое указание на близость к природе). У женщин от века к веку сильно менялась прическа и способ нанесения косметики. У мужчин — главным образом дизайн портмоне.
В соединении любовников было что-то медицинское — оно фиксировалось камерой во всех возможных позах, среди которых обязательно был крупный план с соединенными прямо перед объективом гениталиями (видимо, для совсем ленивых, потому что на пульте управления был маленький трэкпэд, позволявший зрителю собственноручно менять увеличение и ракурс).
Древние выпуски новостей, попавшие в снафы, походили на мух в янтаре — удивляли своей подлинностью и безобразием. Грым и здесь быстро выделил повторяющийся мотив: взволнованный диктор в униформе CINEWS (она тоже менялась со временем) сообщал человечеству про очередную совершенную в Славе мерзость — например, про массовое убийство журналистов, которым, не скрываясь, бахвалились на рынке пьяные правозащитники, или что-нибудь в этом роде.
Следовали кадры с жуткими подробностями — несомненно, реальные (Грыму интересно было смотреть не на лужи крови, а на то, как выглядела рыночная площадь и знакомые улицы сто или двести лет назад).
Когда новостной блок кончался, любовники принимались обсуждать увиденное, и здесь орк обычно говорил какую-то злобную глупость — например, что оркские журналисты сами убивают правозащитников, и думать, будто одни хорошие, а другие плохие — это просто идиотизм.
Тут, конечно, начиналась чистой воды пропаганда и промывание мозгов. Грым представить себе не мог соплеменника, который сморозил бы такое. Все внизу понимали, что журналист и пикнуть не посмеет на правозащитника. Экранный орк торговал развесистой клюквой, но почему-то не говорил правды, которую обязательно сказал бы Грым. Например, что журналисты постоянно воруют лошадей, а если не могут украсть, то насилуют их по очереди, связывая им проволокой ноги и морду, и лошади потом долго болеют, поэтому мужики часто нанимают правозащитников сами. В Уркаине это знали и дети.
Причину такого межкультурного непонимания он выяснил только в экранном словаре:
Журналист, от церковноанглийского «дневной» (diurnal, journal). Вор, который ворует днем — в отличие от ноктюрналиста, ночного вора. В старину так называли информационных сомелье, и в церковноанглийском слово «journalist» по-прежнему имеет коннотации, связанные с информационным бизнесом. Поэтому защита журналистов долгое время служила поводом для цирковых войн.
Вот так, поводом для цирковых войн.
Кому нужна была правда? Люди, догадался Грым, даже не ставили себе задачи лишний раз очернить орков, показав их злобными идиотами, а просто пытались вместить всю неудобную сложность их жизни в одно обтекаемое клише, кочующее из снафа в снаф, потому что так проще было заполнить отведенные на это три минуты времени — а любое нестандартное развитие темы превратило бы три минуты в пять, а то и пятнадцать.
Были, конечно, и приятные отклонения от стереотипов — но большая часть продукции CINEWS INC не слишком удалялась от шаблона.
Однако в огромном количестве снафов (снятых, например, на исторические или мифологические темы) орки даже не упоминались. Грым сначала не мог взять в толк, где же здесь обещанный special newsreel — а потом сообразил, что это и есть цирковая часть. Любая война в Цирке была главной новостью в году — и самым подлинным из всех событий.
Визуально «новостной ролик» всегда был идеально сопряжен с «универсальным художественным фильмом». Трудно было сказать, где курица, а где яйцо: то ли костюмы сражающихся орков подбирали под сценарии, то ли сценарии писали под военную форму — но переход от хроники событий на Оркской Славе к любовному блоку не требовал никаких соединительных мостиков.
Любой снаф начинался стандартной формулой о том, что актеры и модели достигли возраста согласия, а за сцены насилия и жестокости полную ответственность несет правительство Уркаинского Уркаганата. В общем, все было ясно. Кроме одного.
Зачем люди снимают снафы?
Как ни странно, в многочисленных статьях не было прямого ответа на этот вопрос. Было только понятно, что снафы как-то связаны со здешней религией, и именно по этой причине их снимают на ритуальную светочувствительную пленку.
И они не просто имели отношение к религии.
Снафы, похоже, были главным таинством мувизма.
Каждое воскресенье Дом Маниту показывал свежий, или, как здесь говорили, «virgin snuff». В последний век или полтора в храмы ходило мало народу, но в воскресное утро любой мог посмотреть новый снаф у себя дома. Эта традиция была настолько фундаментальна для бизантийской identity, что ее было принято соблюдать — или хотя бы делать вид.
Выходило, CINEWS INC снимала больше пятидесяти снафов в год. В каждом можно было использовать только оригинальную съемку (хотя, как показывала история с танковой битвой, с разных углов могло быть запечатлено одно и то же событие). Вот зачем требовалось такое количество камер над полем боя — войну приходилось пилить на кучу разных историй.
Информации о таинствах мувизма в экранных словарях не было. Ничего не говорилось даже о символе веры или сути учения — в ответ на все запросы экранные словари предлагали искать устных инструкций в Доме Маниту.
У Грыма, однако, был опыт общения со «Свободной Энциклопедией», и он знал, что крупицы правды иногда встречаются в материалах, посвященных разоблачению чуждых взглядов. Оказалось, экранные словари Биг Биза устроены так же. Хоть о самом мувизме сведений практически не было, некоторое представление об этой религии давали статьи о ее ересях.
Самой главной была секта «Сжигателей Пленки».
Статья об этом движении, возникшем около ста лет назад, была выдержана в гневно-брезгливой манере, и многое в ней показалось Грыму туманным. Но кое-что он понял.
Сжигатели Пленки учили, что внешний мир есть проекция внутреннего, а проектор, создающий мир, находится не в руках Маниту, а внутри самого человека. Свет этого проектора и есть свет Маниту, один во всех. Но «пленка», сквозь которую он проходит, у всех разная, и каждый живет в своем собственном иллюзорном мире, где страдает от одиночества. Главной духовной задачей сектанта было найти эту «пленку» и сжечь ее.
Сжигатели Пленки верили, что те, кто «сжег пленку», могут после смерти родиться в другом мире. А некоторые из них уверяли, что уйти туда можно еще при жизни. В конце концов Сжигатели Пленки, в полном соответствии со своей метафизикой, попытались сжечь хранилище Древних Фильмов. После святотатства их секта была запрещена.
Это показалось Грыму настолько интересным, что он даже решился зайти в гости к Дамилоле в неурочное время.
Дамилола принял его за столом, уставленным бутылочками от сакэ. Он, видимо, пил не первый день — синяки под его глазами превратились в черные круги. Зато Кая вновь поразила своей красотой.
На ней было облегающее кимоно из зеленого шелка, а волосы были убраны в черный хвост, перехваченный резинкой со смешными красными шариками-зверюшками. Ее движения выглядели экономными и точными — она иногда подходила к столу, чтобы протереть его или подать подогретую точно до нужной температуры бутылочку, и сразу же уходила, чтобы не мешать мужскому разговору. Но Грыму достался один долгий взгляд из-под полуопущенных ресниц, после которого он всерьез задумался, зачем он пришел к Дамилоле на самом деле.
— Сжигатели Пленки? — наморщился Дамилола. — Да, такие были. Очень интересная секта. Они говорили, что нашли выход из мира. И, видимо, все через него убежали, хе-хе. Их уже давно нет. Но они до сих пор вербуют новых членов.
— Как? — спросил Грым.
— Прямо через маниту. Присылают письма.
— А как они узнают, кому присылать?
— По запросам. У них есть выход на сеть, они смотрят, кто этой темой интересуется, и начинают его обрабатывать.
— А как они могут присылать письма, если их уже нет?
— Элементарно, — махнул рукой Дамилола. — После них остались автономные псамботы.
— Псамботы?
— Да, — сказал Дамилола. — Это от слова «псам». Реклама и всякие идиотские послания. Произошло от выражения «spiced ham»[17]или «spam». Так в эпоху Древних Фильмов называли собачий корм — а за века он слился с адресатом. Псамбот — это типа как небольшой организм, который живет в маниту и сам приспосабливается к изменениям.
— И что, — испугался Грым, — если я их в словаре искал, эти организмы теперь возьмутся за меня?
— Не знаю, — хмыкнул Дамилола.
— А что они пишут в своих письмах?
— Надо Каю спросить, — сказал Дамилола. — Это у нее в башке прямое подключение, а не у меня. Кая, пойди сюда, детка.
Кая, внимательно слушавшая разговор, подошла к столу и села за него, опустив глаза. В ней была какая-то высокая печаль. И еще она походила на девочку, которая разбила дорогую вазу и со страхом ждет, что все откроется и ее накажут. С Хлоей такого не бывало никогда — не в смысле вазы, конечно, а в смысле смущения.
— Мы говорили про Сжигателей Пленки, — сказал Дамилола.
— Я слышала, — кивнула Кая.
— Ты можешь что-нибудь рассказать? А то я ничего толком о них не знаю.
Кая подумала немного и сказала:
— В их метафизике были два основных понятия. «Проектор» и «пленка». «Проектор» — это свет сознания. Пленка — омрачения, помутнения души, которые отделяют человека от Маниту.
— Это есть в словарях, — сказал Грым.
— Да, — согласился Дамилола, — Хакни поглубже, лапочка.
Грым не понял, что значит это слово — но Кая, видимо, поняла. Она закрыла глаза и наморщилась, словно стараясь расслышать какой-то еле слышный звук.
— Они учили, что надо сжечь эту пленку, да? — не выдержал Грым.
Кая отрицательно покачала головой.
— Здесь небольшая путаница, — сказала она. — Они не учили сжигать пленку. Они вообще не учили ничего сжигать. Слово «проектор» — это неправильный в данном случае перевод церковноанглийского «projector», которое употреблялось в значении «некто, строящий планы». Они называли так человека, погруженного в бессознательную деятельность ума. По их учению, следовало перестать быть прожектером и увидеть реальность такой как она есть. Для этого нужно было обнаружить «пелену» мыслей и перейти на ее другую сторону, к чистому незамутненному свету… К нему вел особый мистический полет… Кажется, так.
Она немного помолчала, вздрагивая и морщась.
— Ну да, — сказала она, — снять пелену с глаз и увидеть свет Маниту. Они говорили, что сама человеческая личность — это просто загрязнения и помутнения на этом свете. Их учение вообще не связано с фильмами. Они называли себя «Film Removers». Это из поэмы Джона Мильтона «Потерянный Рай». Цитировать?
Дамилола кивнул — как показалось Грыму, с гордостью за свою говорящую игрушку.
— «But to nobler sights, — продекламировала Кая, — Michael from Adam’s eyes the film removed».[18]Слово «film» можно перевести как «фильм» и как «пелена».
— Достаточно, — махнул рукой Дамилола. — Вывод?
— Сжигать фильмы стали позднее, — сказала Кая. — Сначала несколько человек устроили самосожжение, обмотавшись храмовым целлулоидом. Такое действительно произошло, но это была совсем другая секта — «Свидетели Маниту». А потом случилась темная история с архивом Древних Фильмов, который сектанты якобы пытались поджечь, чтобы подарить всем свободу. Тогда их и прозвали «Сжигателями Пленки». Есть версия, что сжигание придумали исключительно с целью их запретить.
— А за что их тогда запретили на самом деле? — спросил Грым.
— Они уходили жить в Оркланд. Жили отдельно от орков, на самом краю равнины. Там, где свалки… Сейчас…
Кая нахмурилась, как будто у нее болела голова.
— Глаз со слезой…
— Какой глаз?
— Это был их символ — круглый глаз со слезой. Так пишут в старых версиях словарей, но изображения нигде нет. Нет, вот оно… Непонятно. Никакой информации нет, почти все стерто. Ага, вот… Вот… Ясно…
— Что? — спросил Дамилола.
— Это не интересно, — махнула Кая рукой. — Известно только, что никто из сжигателей не вернулся из Оркланда. Все пропали без вести.
— У нас это просто, — подтвердил Грым.
— Все, — сказала Кая. — Больше ничего не вижу.
— Наверно, орки всех убили, — предположил Дамилола. — Поэтому секту и запретили.
Кая кивнула, потом повернулась к Грыму и сказала:
— Грым, пока мы рядом, я хочу, чтобы ты запомнил одну вещь. Что бы ни случилось, я не забуду тебя никогда. Никогда, слышишь?
Грым обомлел. Кая смотрела на него широко открытыми глазами, в которых читалось такое… такое… Грым даже не знал, что оно бывает. А уж слов для этого найти он совсем не мог.
Потом, словно опомнившись, Кая опустила взгляд.
Несколько секунд за столом стояла тишина. А затем Дамилола оглушительно захохотал.
— Нет, Грым, жалко, ты себя не видишь. Ты покраснел! Ты покраснел!
— Она тоже покраснела, — буркнул Грым.
— Ей это проще, — сказал Дамилола и снова захохотал — так, что смех мешал ему говорить, — ты даже не представляешь… ты не представляешь, Грым, что она умеет делать еще!
Кая вскочила из-за стола и убежала в комнату, вызвав у Дамилолы новый приступ хохота.
— Не принимай близко к сердцу, — сказал он, отсмеявшись. — Все эти нежности, поцелуйчики по углам… Она тебя провоцирует, чтобы вызвать во мне сильные эмоции. Ревность, соперничество. У нее это получается. Но исключительно по той причине, что я так запрограммировал ее сам. Ручная настройка.
Грым хмуро кивнул.
— А что касается твоих религиозных вопросов, — продолжал Дамилола, — я уже говорил с Аленой-Либертиной. Она про тебя помнит. Послезавтра в час дня она ждет тебя в парке у своего кабинета.
— В каком парке?
— Дом Маниту сорок два, — сказал Дамилола. — Хорошее место. В молодости я любил там гулять. Там всегда безлюдно. Никто не любит Маниту.
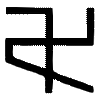
Выйдя из трубы на споте «Дом Маниту 42», Грым увидел прямо перед собой тупичок со спиральной лестницей. Ступени вели под открытое 3D-небо.
Поднявшись вверх, он оказался в центре круглого сквера, по периметру которого стояли белые мраморные статуи на постаментах — штук десять или больше. Сквер был заставлен рядами прямых строгих стульев. Это было что-то вроде кинозала под открытым небом — с оставленным между рядами проходом. Видимо, в воскресенье здесь показывали свежие снафы.
Нигде не было видно ни одного человека.
Кинозал находился в самом центре звездообразного парка — от статуй во все стороны расходились аллеи, между которыми росли округло остриженные кусты и деревья. Аллеи были перегорожены загородками, и Грым решил, что все они фальшивые — вряд ли парк мог занимать столько места. Но потом он увидел, что в некоторых местах никаких загородок нет. Недолго думая, он пошел вперед.
Кусты по бокам аллеи были настоящими — Грым потрогал их рукой и до крови укололся о колючку. Насчет деревьев он уже не был так уверен, потому что дотянуться до них было нельзя.
В этом прохладном тенистом пространстве невозможно было заблудиться, но легко было затеряться. Все дорожки вели к набережной, где под крутым обрывом, отгороженным чугунной решеткой, плескалось море.
Выглядело все так, словно он находится на небольшом круглом острове с высокими скалистыми берегами. Грым понимал, что никакого моря за решеткой нет, но шум волн был более чем правдоподобен. Оттенок соленой свежести, примешивавшийся к знакомому запаху нагретой пластмассы, тоже убеждал.
Небо было покрыто однообразными кучевыми облаками и затянуто дымкой. Грым уже привык, что на больших открытых пространствах солнца здесь почти не видно — хотя, подняв голову, всегда можно наблюдать облако, за которым оно только что скрылось. Видимо, имитация висящего в небе светила была для проекционного оборудования форсажным режимом.
Грым сел на лавку возле ограды. Несколько минут он слушал шум волн и вдыхал запах моря, стараясь не думать о его природе. Потом он ненадолго задремал, и ему пригрезилось, что вокруг работает огромная древняя машина неясного назначения, а сам он — просто случайное пятнышко живой плесени, муравей, заблудившийся в часах. Проснувшись, он ухмыльнулся — сон был, что называется, в руку. А затем он увидел фигурку в черном, идущую в его сторону по набережной.
Это была Алена-Либертина.
Когда она подошла совсем близко, по ней прошла быстрая рябь, и Грыму показалось, что она тоже часть миража — но через миг она села рядом, и он почувствовал аромат знакомых духов — так же пахла теперь Хлоя.
Алена-Либертина вблизи выглядела холодной и несвежей — казалось, ее наполняет мертвая застоявшаяся кровь. В Уркаине она вообще была бы бабкой, но Грым уже знал, что у людей другая возрастная шкала.
— Здравствуй, Грым, — улыбнулась Алена-Либертина. — Ты отлично выглядел в развлекательном блоке. Хорошие стихи. Хлоя, наверно, очень тобой горда.
Грым провел наверху уже достаточно времени, чтобы оценить всю глубину ее иронии — и одновременно понять, что она даже не собиралась его обидеть. Он скромно опустил глаза.
— Дамилола сказал, что ты хочешь узнать больше о таинствах. Зачем?
У Грыма уже был заготовлен ответ.
— Я хочу лучше понимать мир, в котором живу. Внизу нам никогда не говорили правду.
Алена-Либертина кивнула.
— Я священник, — сказала она, — А быть священником и означает открывать людям правду. С удовольствием расскажу тебе все, что смогу. Спрашивай.
Грым вдруг понял, что все его вопросы куда-то пропали. Он беспомощно огляделся по сторонам.
— А почему в парке никого нет? — выдавил он.
— Здесь всегда пусто, — сказала Алена-Либертина. — Люди не любят сюда ходить. Тут ты на ладони Маниту. В это сейчас никто не верит. Но это так.
— Место красивое, — пробормотал Грым. — Очень длинная набережная.
Алена-Либертина засмеялась.
— Эта набережная и этот парк — на самом деле просто движущаяся дорожка, Грым. Если точно, несколько отдельных дорожек. Ты идешь по ним хоть час, хоть два — а сам практически стоишь на месте.
— А если идти быстро?
— Когда идешь быстро, она крутится быстрее. Ты ее сам настраиваешь.
Грым оглянулся на парк.
— А все остальное — это наваждение?
— Можно сказать и так, — улыбнулась Алена-Либертина.
— А как же все эти аллеи?
— Настоящих всего три.
— Три? — изумился Грым, — А что будет, если кто-то пойдет по ненастоящей?
— Такого не может случиться. Это не аллеи, а просто коридор, обсаженный кустами. Намного короче, чем кажется, и тоже с движущейся поверхностью. Но я сама точно не знаю, как все это крутится и поворачивается. Хотя гуляю тут уже полвека.
— Подождите, — сказал Грым, — Но я ведь сам видел, как вы шли по набережной. Издалека-издалека.
— Увидеть можно все что хочешь, — ответила Алена-Либертина. — Тебе будет казаться, что я далеко. А я могу быть в трех метрах. Тут все очень маленькое и компактное. Все рядом.
«И все неправда», — подумал Грым, но ничего не сказал.
— У тебя есть еще вопросы?
— Скажите, почему мы такие? Я имею в виду, орки. Кто нас сделал плохими?
Алена-Либертина кивнула, словно ждала подобного вопроса.
— Сейчас уже никто не помнит точно, Грым. Ясна только примерная схема. Священные книги учат людей быть хорошими. Но, чтобы кто-то мог быть хорошим, другой обязательно должен быть плохим. Поэтому пришлось объявить часть людей плохими. После этого добру уже нельзя было оставаться без кулаков. А чтобы добро могло своими кулаками решить все возникающие проблемы, пришлось сделать зло не только слабым, но и глупым. Лучшие культурные сомелье постепенно создали оркский уклад из наследия человечества. Из всего самого сомнительного, что сохранила человеческая память. Боюсь, это покажется тебе циничным и жестоким. Но для нашего века это просто данность.
Грым уже слышал что-то похожее от покойного дискурсмонгера.
— А почему так говорят — «сомелье»? — задал он другой идиотский вопрос, — Столько разных профессий, а слово одно…
— Раньше так называли слуг, подносящих вино. У них были большие списки вин, откуда могли выбирать господа. А потом так стали называть людей, занимающихся тем, что раньше считалось творчеством.
— Почему?
— Люди уже придумали все необходимое. Когда-то давно человечество развивалось очень бурно — постоянно менялись не только вещи, окружавшие людей, но и слова, которыми они пользовались. В те дни было много разных названий для творческого человека — инженер, поэт, ученый. И все они постоянно изобретали новое. Но это было детство человечества. А потом оно достигло зрелости. Творчество не исчезло — но оно стало сводиться к выбору из уже созданного. Говоря образно, мы больше не выращиваем виноград. Мы посылаем за бутылкой в погреб. Людей, которые занимаются этим, называют «сомелье».
Грыму показалось, что Алена-Либертина говорит чуть раздраженно. Видимо, не следовало тратить ее время на то, с чем могли помочь экранные словари. Пора было собраться и спросить о главном.
— Почему снимают снафы?
Алена-Либертина усмехнулась.
— Это наш долг и назначение как людей. Так хочет Маниту.
— Но ведь люди не всегда снимали снафы.
— Да, этот так, — согласилась Алена-Либертина. — Люди не всегда их снимали, потому что воля Маниту еще не была им понятна на сознательном уровне. Но они всегда в них снимались. Если ты понимаешь метафору.
— А для кого их снимают? Ведь у нас… То есть внизу у орков… снафы даже нельзя толком посмотреть. Все вымарано цензурой. А наверху их почти никто не смотрит.
Алена-Либертина опять усмехнулась.
— Ты не поймешь, мальчуган.
— Попробуйте, скажите.
— Знаешь, в эпоху Древних Фильмов был один директор. Так называли людей, которые эти фильмы снимали. И ему задали такой же вопрос — для кого вы делаете фильмы? Для славы? Для людей? Нет, ответил он. Для Маниту.
— Для Маниту?
— Да, мальчик. И мы тоже снимаем снафы для Маниту.
— А Маниту про это знает?
— Ты все равно не поймешь, пока не войдешь в Дом Маниту.
— А где Дом Маниту? — спросил Грым. — Я думал, что я уже приехал.
— Идем, — сказала Алена-Либертина. — Я тебя отведу.
Она встала и пошла по набережной. Грым поднялся со скамейки и пошел рядом, борясь с неожиданно нахлынувшим страхом.
Наверно, из-за рассказа про устройство аллей обратный путь показался значительно дольше. Грыму трудно было поверить, что под ногами у него движущаяся дорожка. Он глядел вниз, пытаясь определить, действительно ли там плотный утоптанный грунт, или это очередное наваждение — но так ничего и не понял.
Когда они вышли в круглый сквер, где стояли окруженные статуями стулья, Алена-Либертина опустилась на один из них и жестом пригласила Грыма сесть рядом.
— Тебе интересно, кто все эти люди? — спросила она, указывая на белых истуканов.
Грым сосчитал постаменты — их было двенадцать, по числу расходящихся дорожек.
— Наверно, — предположил Грым, — это древние жрецы Маниту? Его слуги?
— Скорее, его лица, — сказала Алена-Либертина. — Мы называем словом «Маниту» каждого из них. Ибо за каждым стоит целая эра в истории человечества. Они были рупором вечной истины. Любое их слово в свое время потрясало мир, и к нему писали тома примечаний с комментариями. Но сейчас люди даже не помнят их имен.
Единственное, что было Грыму интересно — это зачем Маниту столько разных лиц, если он никогда не врет. Но он подумал, что такой вопрос может прозвучать богохульно. Все же следовало задать об этих статуях несколько вопросов — хотя бы из вежливости.
— Кто вот этот? — Грым указал на статую хитрого косоглазого воина, сидящего на постаменте, скрестив ноги в остроносых сапогах.
— Это Маниту Будда. Великий воин древности. Он казнил врагов Маниту, привязывая их к своему колесу. Видишь колесо?
— Ага, — сказал Грым. — А эти два?
Он указал на на двух бородатых мужчин, стоящих на соседних постаментах.
По виду они казались родными братьями — только один был в чем-то вроде накинутой на тело простыни, а другой — в обтягивающем трико. Первы