Спасибо — это мне много. Мне бы бонус.
Показали фотографию моей «Хеннелоры» и немного подержали в кадре меня самого, объявив спасителем оркской парочки. Дали крупный план, где Грым с Хлоей жмут мне руки — девчонка даже чмокнула меня в щеку.
А потом сразу врубили breaking news, и ведущий выдал скорбную весть о кончине прославленного дискурсмонгера: он-де погиб вместе с легендарным Трыгом, когда трусливые власти взорвали первого оркского пупараса в собственном доме (об этом Трыге я расскажу чуть позже — пока же замечу, что это дикое заявление почти соответствовало истине). Диктор предположил, что Бернар-Анри хотел защитить его своим присутствием — но даже это не остановило оркскую машину репрессий и убийств.
Прокрутили контрольную съемку — то, что осталось от дома после ракетного залпа. Потом дали немного архива — каких-то переговаривающихся по мобильной связи ганджуберсерков со зверскими лицами. Затем показали стоящий на Оркской Славе моторенваген, который Бернар-Анри перед смертью успел отдать юным оркам, чтобы они сумели спастись. В воздухе отчетливо запахло следующей войной — хотя до нее оставался еще минимум год.
Программа про спасенных орков естественно перетекла в мемориал Бернара-Анри — зритель обожает такую спонтанность в прямом эфире. Пустили избранные кадры с покойным дискурсмонгером, зачитали несколько отрывков из «Les Feuilles Mortes», обвели его беззвучно гримасничающее лицо траурной рамкой… В общем, одним философом во вселенной официально стало меньше. Я не уставал изумляться: вынести столько мусора за один раз — это надо уметь.
Потом на маниту долго был крупный план искаженных горем лиц Грыма и Хлои — они не просто побледнели, их аж затрясло от горя и ужаса, такое не подделать. Но гуманизм человечества и тут пришел им на помощь.
Оказалось, Бернар-Арни успел удочерить Хлою по оркскому праву. Он вообще-то всегда так делал, чтобы его девку пускали в Зеленую Зону — потому что все равно выходило ненадолго. Но об этом новости промолчали. Наследников у Бернара-Анри не было, поэтому Хлое торжественно передали перед камерой символический ключ от его дома, сообщив зрителям, что я, как сосед и друг покойного философа, буду ментором оркской парочки вместо него — и помогу новым гражданам Биг Биза сориентироваться в незнакомом мире. Для меня, надо сказать, это было такой же новостью, как для Грыма с Хлоей — но я не возражал. За любую работу на CINEWS INC полагается хорошая компенсация, а сразу после войны у летчиков мало дел.
В общем, получилось отличное шоу.
Разумеется, никто не поинтересовался у орков, в каких отношениях между собой они находятся и будут ли они жить вместе — все это было оставлено за скобками в виде изящно-прозрачной фигуры умолчания, в полном соответствии с ювенальным правилом «Don’t look — don’t see». Зато после съемок Алена-Либертина выразила желание лично встретиться с Грымом и Хлоей, чтобы принять участие в их развитии.
Хлоя провела в ее кабинете не меньше трех часов — и Грыму пришлось ждать в коридоре. Встречу с ним самим Алена-Либертина перенесла на потом. Думаю, после знакомства с покойным Бернаром-Анри Хлоя уже не удивлялась никаким человеческим слабостям. Если Грым что-то понял (в чем я далеко не уверен), он никак этого не показал.
Я, кстати, давно не могу взять в толк, почему пожилые богатые лесбиянки до седых волос бегают за живыми девчонками и не ладят с сурами. Некоторые утверждают, что этот вопрос уже не относится к сфере любовного влечения, ибо к сорока пяти годам лесбиянка превращается в секс-вампира — налитого холодной рыбьей кровью охотника за чужой жизненной силой. Но я бы не рискнул повторить такие слова публично — тут недалеко и до цинизма.
Так мы с Каей обзавелись новыми соседями.
Вечером я показал Кае всю передачу в записи. Она смотрела ее, вытаращив глаза — кажется, даже перестала моргать. А когда она узнала, что Грым и Хлоя теперь будут жить меньше чем в сорока физических метрах от нас (мы с Бернаром-Анри ходили друг к другу в гости пешком по коридору), она так поглядела на меня, что я понял — если внизу война уже кончилась, то в моем доме она только началась.
Так и вышло.
Если бы консультант по поведению сур не предупредил меня заранее об эффекте «символического соперника», я, возможно, очень скоро нанес бы своей душеньке те самые тяжелые механические повреждения, на которые не распространяется гарантия изготовителя.
Конечно, я знал, что единственная цель ее усилий — вызвать во мне муки ревности. Обижаться на нее было так же глупо, как на чайник или рисоварку. Но она настолько изощренно вгрызалась своими белыми зубками в мое сердце, что каждый раз я начисто про это забывал.
Однажды утром я проснулся от ее пристального взгляда. Такое у нас бывает часто. Но обычно она смотрит на меня с таким выражением, словно я больной проказой янычар, который выкрал ее из консерватории, где она училась играть на арфе, и бросил в совмещенный со свинарником гарем, где теперь пройдет цвет ее юности. Это меня ужасно возбуждает, но я никогда ей не говорю. Как только она поймет, до чего мне это нравится, она сразу лишит меня моей маленькой радости, и ничего нельзя будет поделать: ее вынудит то же беспредельное сучество, которое и провоцирует этот утренний взгляд.
Но в этот раз она смотрела на меня совсем иначе — с какой-то сломленной покорностью и, я бы даже сказал, мольбой — словно она смирилась со свиным гаремом и решила бороться за более выгодные условия продажи рабочей силы. Это меня удивило, и я приподнялся на локтях.
— Что случилось?
— Папик, — сказала она, — а ты когда-нибудь задумывался о том, что у меня практически нет никакой приличной одежды?
Это было чистой правдой. У нее имелось только несколько комплектов кружевного белья, которое я любил иногда с нее срывать, и еще два махровых халата — синий в зигзагах и зеленый в зайчиках. По неясным причинам программные установки заставляли ее делать вид, что халат в зигзагах она совершенно не выносит.
— Ты мне больше всего нравишься голая, — сказал я.
— Это тебе, — ответила она. — А как быть с другими? Вдруг к нам придут гости, а я сижу в халатике? Или, допустим, ты все-таки решишься меня куда-нибудь выпустить — что я, пойду в кружевных трусиках?
— Дура, — не выдержал я, — мне за тебя кредит еще знаешь сколько лет отдавать? Ты, может, хочешь, чтобы я сам в трусах ходил? И потом, куда это ты собралась?
— Пока никуда, — сказала она мрачно.
Я уже думал, что инцидент завершен. Но оказалось, что она, как шахматный гроссмейстер, просчитала все ходы далеко вперед.
Я совсем забыл, что нахожусь теперь в ее полной власти. Нет, она не могла отказать мне в ласке. Вернее, такой отказ был предусмотрен инструкцией по эксплуатации и, как бы это сказать, входил в комплект услуг. Ее слезы всего лишь свидетельствовали, что настройки выставлены правильно. Такое с нами бывало довольно часто — для этого сур и держат на максимальном сучестве.
Но я совсем забыл про допаминовый резонанс.
Вернее, я про него очень хорошо помнил. Но почему-то считал — раз Кая находится в моей полной собственности, то и эта услуга тоже. Я упустил из виду, что совсем не понимаю, как она достигает такого эффекта, и не смогу добиться своего силой. В инструкции о допаминовом резонансе не было ни слова. В экранных словарях — тоже. Это был некорректный режим. Симпатичный консультант-суролог, скорей всего, просто не стал бы обсуждать со мной эту тему.
Весь день меня томило мрачное предчувствие. А вечером выяснилось, что оно меня не обмануло.
— Нет, — сказала она в ответ на мою нежную просьбу. — Вообще про это забудь, жирная жопа.
— Что значит — забудь? — разъярился я. — Я так хочу!
— А ты пожалуйся производителю.
— И пожалуюсь, — сказал я.
— Давай-давай. Они мне после этого сделают такой апгрейд, что я сама обо всем забуду. Перешьют по беспроводной связи. Ты даже не заметишь, когда и как.
— Они не имеют права.
— А как ты про это узнаешь?
— Я пожалуюсь, — сказал я неуверенно.
— Кому и на что?
Я молчал.
— Зачем он тебе вообще, этот допаминовый резонанс? — продолжала она весело. — Почему бы тебе не воспользоваться услугой «изнасилование»? У тебя это всегда так славно выходит…
И тут я окончательно понял, перед какой интересной дилеммой оказался.
Не было ни малейшего сомнения, что со мной сейчас говорит настройка «максимальное сучество». Я мог в любой момент изменить этот параметр. Но тогда исчез бы и режим допаминового резонанса, который открывался только в этой позиции. Так мне сказала Кая — но мне приходилось принимать ее слова на веру, просто по той причине, что единственным источником информации была она сама. Никакого «допаминового резонанса» официально не существовало в природе.
Я уже проверил это самым тщательным образом — в открытом доступе не было никаких сведений вообще. Ни в срачах, ни в форумах о нем даже не упоминали, хотя по-отдельности говорили и про допамин, и про резонанс. И если это действительно было такой тайной, компания запросто могла перепрошить ей мозги без всяких консультаций со мной.
Как ни дико, теперь она могла меня шантажировать.
У нее был пряник. И каждый отказ в этом прянике был для меня равносилен удару кнутом. Я мог, конечно, одним поворотом кручины уничтожить ее власть надо мной — но вместе с виртуальным пыточным инструментом исчезла бы и самая сладкая карбогидратная выпечка, которой касались в жизни мои губы.
Я ничего, совсем ничего не мог поделать. И мне некого было винить — все это со мной, живым и страдающим человеком, проделывал бездушный алгоритм, который я сам настроил таким образом для потехи!
Она смотрела на меня, не отрываясь. Видимо, ход моих мыслей отражался на моем лице — потому что в какой-то момент она сладко улыбнулась и спросила:
— Кажется, попка все понял?
— Захотела на паузу? — спросил я грозно.
— Давай, — сказала она. — А потом рекомендую пойти в сортир и переключить меня на «облако нежности». Я тогда буду приносить тебе тапочки. И шумно дышать, пока ты не кончишь, жирный дебил.
Я угрожающе привстал.
— Еще одно слово…
Она злобно захохотала.
— Что ты собираешься мне сделать? Причинить боль? Ты и правда дурак, Дамилола. Во всем этом представлении только один участник — ты. О чем ты сам регулярно мне напоминаешь — с совершенно непонятной, кстати, целью, потому что такое действие полностью разрушает логику высказывания. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я сейчас говорю. Кого ты сейчас хочешь напугать?
Я и без нее понимал весь инфернальный комизм своего положения. Но тут мне в голову пришла счастливая мысль. Все-таки человек всегда будет умнее машины, подумал я с удовлетворением.
Я уже знал, как можно обмануть эту обнаглевшую дочь рисоварки. Я вспомнил про максимальную духовность. Она в обязательно порядке предполагает сострадание и гуманизм. Я мог попытаться инициировать программный сбой, зайдя с этого фланга.
Несколько секунд я тщательно взвешивал свои слова, чтобы случайно все не испортить. И лишь точно просчитав возможный эффект, решился открыть рот.
— Постой, Кая, постой… Ведь мы с тобой не враги.
Вспомни — я, в сущности, несчастный одинокий человек. Ты — это все, что у меня есть. Ты причиняешь мне боль. Сильнейшую боль. Ты заставляешь меня страдать.
Она подняла на меня полный недоверия взгляд. Очень вовремя, потому что от жалости к себе мои глаза стали совершенно мокрыми.
— Неужели тебе меня не жалко? — спросил я.
— Жалко, — ответила она, — Конечно жалко, глупый.
— Зачем же ты так себя ведешь, моя девочка?
— А ты? — спросила она тонким голоском. — Почему ты себя так ведешь? Неужели тебе совсем наплевать, как я выгляжу? Ты мне каждый день говоришь, какая я красивая, а у меня только два банных халатика, и все…
И на ее глазах тоже выступили хрустальной чистоты слезы, которые я иногда даже позволял себе слизывать — правда, при немного других обстоятельствах. Но сейчас такое было бы неуместно, и я это хорошо понимал.
Страх потерять случайно найденное счастье невероятно обострил мою интуицию. Я чувствовал — сказать ей, что резиновая женщина вполне может обойтись одной парой кружевных трусиков, было бы роковой ошибкой: пороговые триггеры немедленно перебросили бы ее из зыбкой позиции сострадания к конфронтационным сценариям максимального сучества. Я проиграл бы свое Ватерлоо за пять минут. Мне следовало проскользнуть между сциллой и харибдой таким образом, чтобы дверь к счастью не захлопнулась навсегда прямо перед моим носом. Возможно, понял я, следует отступить…
— Хорошо, — сказал я. — Я куплю тебе чего-нибудь. Потом. А сейчас…
— Нет, — ответила она. — Сначала ты мне все купишь — и не что-нибудь, а то, что я скажу. Я сама себе куплю. Ты просто заплатишь.
— Хорошо, — сказал я. — Завтра утром сядем вместе за маниту, и…
Она подошла, села рядом и запустила мне руку в волосы. Надо сказать, что это простое движение доставило мне больше волнения и радости, чем самые изощренные постельные фокусы. Все-таки в максимальном сучестве был свой смысл — о, еще какой, еще какой…
— Дай денег, — шепнула она мне в ухо. — Я сама все сделаю.
— Сколько ты хочешь, киска? — спросил я, обнимая ее за талию.
— Триста тысяч маниту.
Однако. На эти деньги можно было купить целую кучу шмоток. Куда больше, чем нужно нормальной резиновой женщине.
— Сто тысяч, — прошептал я. — И только потому, что я тебя люблю больше жизни.
Она шлепнула меня по ладони, которая уже сползла ей на бедро.
— Двести.
— Сто пятьдесят, — сказал я, — и это мое последнее слово.
— Сто восемьдесят.
— Сто пятьдесят. Даже это нам не по карману.
Она легонько укусила меня за мочку — как раз так, как надо, и там, где я любил.
— Сто семьдесят пять. И тогда прямо сейчас.
Я не мог поверить, что так легко отделался.
— Хорошо, — сказал я. — Договорились.
— Слово летчика? — улыбнулась она.
Она была так хороша в этот миг, что я зажмурился.
— Слово летчика, — повторил я.
— Летчикам я верю с детства, — сказала она и протянула мне сложенный вдвое листок.
Я развернул его. Внутри были рукописные цифры.
— Что это?
— Мой кошелек, — ответила она. — Для покупок через сеть. Пожалуйста, положи туда сто семьдесят пять тысяч прямо сейчас, как обещал.
— Когда это я обещал, что прямо сейчас?
— Я сказала «сто семьдесят пять, и тогда прямо сейчас». А ты дал слово летчика.
— Я думал, что прямо сейчас будет не это, — произнес я растерянно.
— Не это тоже будет, — сказала она. — Но потом. Давай, милый, сходи в свою крепость.
«Милый…» Когда я слышал от нее такое в последний раз?
Я поплелся в комнату счастья, размышляя по дороге, не переустановить ли ей всю систему, а затем попробовать вернуться в этот режим… В принципе, компания обязана была делать такие вещи. Но если Кая была права, и допаминовый резонанс был просто программным багом, в новой версии его могло не оказаться.
Стоило ли рисковать чудом вырванным у жизни счастьем? И потом, после перепрошивки это была бы уже не моя Кая. Возможно, думал я, дело именно в проблемах, которые она мне создает, и это они делают награду столь сладкой и желанной. Быть может, она просто в совершенстве имитирует древнее женское искусство обольщения, не давая мне прийти в себя и понять, что происходит… Если так, она делает свое резиновое дело просто божественно, и было бы верхом глупости разрушить этот так нежно и неповторимо сложившийся клубок алгоритмов.
И потом, если честно, она попросила не так уж много.
Я знал людей из моторенваген-бизнеса, которые больше тратили на оркских проституток за один вечер.
Сев на свой трон могущества, я ввел пароль и вбил в мерцающую пустоту цифры с ее листка. Это был открытый два дня назад анонимный счет на предъявителя — с него мог делать покупки кто угодно. В сети никто не знает, что ты резиновая женщина, думал я, пересылая деньги. Мне теперь придется платить ей за каждый раз? Или это разовая акция устрашения? Посмотрим. Но лучше на всякий случай быть с ней вежливым и предупредительным. И без сарказма, главное без сарказма. Они этого особенно не любят.
Через час я лежал на спине, обессиленный и счастливый. Только что испытанное мной невозможно было купить за сто семьдесят пять тысяч. Это было бесценно.
Дело было не в физическом удовольствии, конечно — оно сводится к механическим спазмам, к простому чихательному рефлексу, перенесенному в другие зоны тела, и повышенный интерес к этому зыбкому переживанию уместен только в раннем пубертатном возрасте. Если разобраться, никакого удовольствия в так называемом «физическом наслаждении» на самом деле нет, его подрисовывает задним числом наша память, состоящая на службе у инстинкта размножения (так что называть ее «нашей памятью» — большая наивность).
Дело было совсем в другом. В том, что Кая дала мне пережить, присутствовала незнакомая мне прежде высота внутреннего взлета. В это пространство, как мне кажется, редко поднимается человек, иначе оно обязательно было бы отражено в стихах и песнях. А может, люди всю свою историю пытаются отразить в искусстве именно его, и каждый раз убеждаются в неразрешимости такой задачи. Возможно, чего-то подобного достигали мистики древних времен — и думали, что приблизились к чертогу самого Маниту.
Я понимаю, как неинформативно это звучит — «высота внутреннего взлета». Особенно от летчика. Но как еще объяснить? Лучше всего это получилось у самой Каи, когда она сказала про качели, делающие «солнышко».
Если кто не знает, «качели» — это такие деревянные лодки, подвешенные к неподвижной перекладине на подшипниках от моторенвагена — в Славе таких много. Сколько раз над ними пролетал, и даже снимал один раз для передачи «За Фасадом Тирании». Эти качели могут подниматься до определенной высоты, а дальше начинают биться в деревянный ограничитель.
Человеческое тело, занятое поиском наслаждения, подобно таким качелям. Мы думаем, что достигаем высшей доступной радости, когда чувствуем содрогание качелей от удара об ограничивающую доску. Так оно и есть — в искривленном тюремном смысле.
Со мной же случилось следующее — чья-то уверенная рука качнула лодку с такой силой, что она сбила эту доску, взмыла выше, еще выше, а потом вообще описала полный круг, — и, вместо привычного отката назад после нескольких шажков в сторону недостижимого счастья, я помчался прямо за ним, круг за кругом, больше не давая ему никуда уйти.
И дело было не в том, что мне удалось поймать солнечный зайчик или действительно прописаться внутри миража. Нет, лживая фальшь всех приманок, намалеванных для нас природой, никогда не была видна так отчетливо, как в эти секунды. Но из запрещенного пространства, куда, сломав все загородки, взлетели мои качели, вдруг открылся такой странный и такой новый вид на мир и на меня самого…
Совсем другая перспектива.
Как будто с высоты я увидел зубчатую ограду оркского парка, а за ней — свободную территорию, куда не ведет ни одна из тропинок, известных внизу, и куда уже много столетий не ступала человеческая нога. И я понял, что в истинной реальности нет ни счастья, за которым мы мучительно гонимся всю жизнь, ни горя, а лишь эта высшая точка, где нет ни вопросов, ни сомнений — и где не смеет находиться человек, потому что именно отсюда Маниту изгнал его за грехи.
— Почему ты опять плачешь? — спросила Кая.
В полутьме спальни ее лицо казалось нарисованным тушью на шелке.
— Не знаю, как теперь жить.
— Не бойся, — сказала Кая, — мы обо всем договоримся.
Женщины, в том числе и резиновые, все понимают по-своему. И бесполезно им объяснять, что имелось в виду совсем другое, высокое. Особенно когда имелось в виду именно то, что они подумали.
— Мы каждый раз будем с тобой торговаться? — спросил я.
— Нет, — сказала Кая. — Все будет бесплатно. Как раньше. Ты даже можешь меня бить и мучать, и я все равно буду делать то же самое. Но ты должен согласиться на три условия.
— Какие?
— Во-первых, — сказала она, — я хочу, чтобы мне иногда можно было выходить из дома. Отключи пространственную блокировку.
— Во-вторых? — спросил я мрачно.
— Не ставь меня на паузу.
— В-третьих?
— Я хочу познакомиться с Грымом.
Так.
Вот для чего ей нужна одежда.
Она собиралась начать на моих глазах флирт с Грымом, чтобы еще сильнее надавить на мое израненное сердце. Когда я осознал это, мне показалось, что у меня внутри тихо хрустнула какая-то нежная стеклянная деталька.
Да, она могла быть умна и проницательна, она могла поражать интеллектом, она могла быть хитрее и даже мудрее меня — но сколько бы я ни вглядывался в этот совершенный симулякр души, сколько бы ни находил в нем чудесных смыслов, сколько бы ни обманывался красотой распускающихся на нем цветков, его корнем все равно оставалось беспредельное сучество. Всегда и во всем.
Одну секунду я был близок к тому, чтобы упасть на колени и прошептать:
— Милая, ну зачем? Зачем тебе с такой беспощадностью отрабатывать эту идиотскую, насильно вбитую в тебя природой и обществом программу, чтобы заставить меня страдать все сильнее и сильнее? Что ты пытаешься спрятать за волнами ужаса и боли, которые поднимаешь в моей душе? Свою пустоту? Свое небытие? Я знаю о них и ничего не имею против. Почему ты не можешь просто дарить мне радость и спокойно жить — или притворяться, что живешь, — рядом? Зачем тебе постоянно раздувать сжигающее меня страдание?
Но я был уже достаточно знаком с правилами этой отвратительной игры, чтобы понимать — женщине такого не говорят. А значит, не говорят и суре.
— Так ты согласен? — спросила она.
— Дай мне подумать, — сказал я. — Все это не так просто.
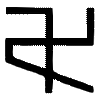
Комната, где Грыма с Хлоей осмотрели врачи, напоминала зеркальный шкаф изнутри. Гримерная, где их готовили к съемке, походила на будуар уркагана из памятного предвоенного клипа (не хватало только окровавленной резиновой женщины на заднем плане). Но от сверкающего сумбура первых часов у Грыма почему-то остался в памяти только изогнутый облезлый коридор, по которому их переводили из одной студии в другую.
Коридор был увешан дырчатыми панелями из черного карбона. Со всех сторон неряшливо свисали провода, а на самих панелях белели объявления: