Хаймито фон Додерер
Избранное
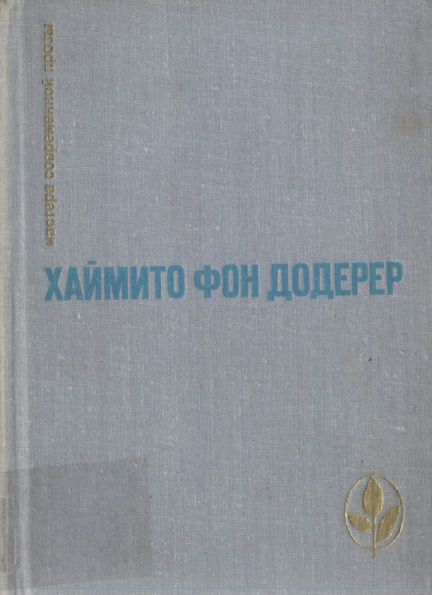
Хаймито фон Додерер
Избранное
ПРЕДИСЛОВИЕ
Между размерами страны и значительностью ее литературы нет прямой зависимости. Австрия и австрийская литература убедительный тому пример. В XVIII, в XIX веках Габсбургская монархия владела обширнейшей территорией, числилась среди великих держав. И тысячелетняя ее культура породила великую музыку, музыку Гайдна, Моцарта, Шуберта. Были свои классики и у австрийской драмы, поэзии, прозы: Франц Грильпарцер, Николаус Ленау, Адальберт Штифтер. Их художественный вклад весом, однако и сегодня его редко распространяют за немецкоязычные пределы, еще реже соизмеряют с вкладом Гёте или Шиллера, Гёльдерлина или Гейне, Байрона или Кольриджа, Стендаля или Бальзака. Но когда монархия рухнула и Австрия превратилась в малую среднеевропейскую страну, именно тогда у нее появились писатели с мировыми именами. Точнее говоря, они начали появляться и до этого, и чем ближе к рубежу 1918 года, тем больше. Достаточно вспомнить довоенного Рильке, довоенного Кафку, довоенного Гофмансталя, указать на первые шаги Роберта Музиля. Уже обозначилась близость и, главное, неотвратимость имперской катастрофы, в которой прозорливые эти писатели различали симптомы конца целого мира, целой эпохи. Катящаяся в пропасть Австро‑Венгрия виделась некоторым из них моделью обреченного, анахроничного общественного бытия, средоточием его противоречий, слабостей, пороков. И это придавало масштабность, всеобщность их реквиему и их критике. А между двумя мировыми войнами к упомянутым именам прибавились новые: Стефан Цвейг, Герман Брох, Йозеф Рот, Франц Верфель, Альберт Парис Гютерело… Если не считать Рильке и Цвейга, ни один из них не был по‑настоящему признан и понят при жизни. Но с расстояния, когда крушение буржуазного духа, кризис буржуазной культуры стали реальностью повсеместной и общепризнанной, эти австрийские пионеры вырастают в фигуры очень крупные. На современном Западе издается и переиздается их часто незавершенное, часто разрозненное наследие; им посвящаются десятки и сотни книг, эссе, статей.
|
|
Хаймито фон Додерер – одно из таких имен, одна из таких фигур. Он нечто вроде «последнего классика» австрийской литературы XX века. И он любил, когда его называли «самым австрийским писателем Австрии».
Правда, эта «форма титулования» способна (по крайней мере в первый момент) вызвать известные сомнения, ибо многое отличало Додерера от прочих именитых австрийцев.
Чуть ли, не для всех них распад Габсбургской монархии если не трагедия, не утрата общественная и личная, так, во всяком случае, всемирно‑исторический рубеж. А для Додерера имперская катастрофа не трагедия, даже не рубеж. Потому что Австрия, в его глазах, осталась как некая духовная, культурно‑историческая общность, вобравшая, ассимилировавшая все среднеевропейские влияния – чешские, хорватские, словенские, венгерские, украинские. Более того, лишь с этой точки, по Додереру, могло начинаться естественное, здоровое национальное развитие Австрийской республики. Поэтому если и Кафка, и Музиль, и Брох, и Рот, и Цвейг по преимуществу нацелены на разлом, сосредоточены на трагической стороне новейшего мировосприятия, то Додерер посреди распада упрямо ищет равновесия, гармонии, постоянства, стабильности.
|
|
И все‑таки Додерер во всех своих исканиях не так уж необычен, не так самобытен, как могло бы показаться. Он оставался в русле общеавстрийской проблематики, общеавстрийских художественных устремлений.
* * *
«Не в „личной жизни“ художника следует искать point d’appui[1], ту, надо сказать, трансцендентную по отношению к области искусства точку, которую мы считаем истинным рычагом при такого рода наблюдениях. Ее следует искать скорее в вечном ядре личности…» – так писал Додерер в книге «Дело Гютерсло. Судьба художника и ее толкование» (1930). Там он анализировал литературное творчество и живопись Альберта Гютерсло, которого всю жизнь считал своим учителем и на которого нисколько не был похож. Но, говоря о других, писатель, как правило, не в меньшей мере говорит о себе самом: point d’appui додереровской писательской судьбы тоже лежит глубже поверхности его «личной жизни».
Начнем, однако, с этой поверхности. Додерер родился в 1896 году в Вайдлигау близ Вены. Его отец, архитектор по образованию, был известным строителем альпийских железных дорог, что принесло ему немалые деньги. Додереры – семейство вполне «австрийское»; оно состояло в отдаленном родстве с мятежным романтическим поэтом XIX века Николаусом Ленау; в жилах его представителей текла не только немецкая, но и венгерская и даже французская кровь. В 1915 году вчерашний гимназист Хаймито стал солдатом и, прежде чем оказаться в русском плену, участвовал в одном из последних бессмысленно‑героических кавалерийских сражений первой мировой войны. Пять лет он провел в офицерском лагере для военнопленных под Красноярском. Почему‑то он вспоминал об этом времени как о чуть ли не самом счастливом в своей жизни. У австрийцев был свой мирок, сравнительно сытый и спокойный даже тогда, когда Россию всколыхнула революция, когда в Сибирь пришла гражданская война. Годы спустя Додерер описал это время в романе «Тайна империи» (1930). Вопреки названию это не политическая книга. В ней изображен быт группы австро‑немецких военнопленных, их личные взаимоотношения, их любови и ревности. Революция и гражданская война – лишь дальний фон повествования. А «тайной» для автора и его автобиографического героя Рене фон Штангелера была победа народа над царизмом, «победа горчайшей бедности и нужды над богатейшим аппаратом власти». Додерер так и не повял русской революции.
|
|
С этим поздней осенью 1920 года он и вернулся домой, в Вену. Вернувшись, он пожелал стать писателем, ибо еще в лагере пробовал заниматься литературой, даже работал над замыслом, который осуществил более трех десятилетий спустя в романе «Штрудльхофская лестница, или Мельцер и глубина лет» (1951). Однако отец настоял на выборе профессии менее «эфемерной». Додерер поступил в университет и в 1925 году защитил диссертацию «К вопросу о бюргерской историографии в Вене на протяжении XV столетия». Занятия историей вообще сформировали его весьма своеобразный историзм, а средневековой историей, в частности, подсказали темы таких повестей, как «Последнее приключение» (написана в 1936 году, издана в 1953) и «Окольный путь» (1940). Более того, профессиональные звания позволили Додереру сочинить на языке XV века старую хронику, вошедшую в качестве главы в его роман «Бесы» (1956).
И все‑таки он хотел быть только писателем. Еще сидя на студенческой скамье, он выпустил сборник стихов «Переулки и природа» (1923). За ним последовали романы «Пролом. Происшествие, длившееся двадцать четыре часа» (1924) и «Убийство, которое совершает каждый» (1938). Три эти книги плюс «Тайна империи», «Окольный путь» да «Дело Гютерсло» – вот и все, что Додерер выпустил в свет до второй мировой войны. Но написано было больше: не только «Последнее приключение», а и первые семнадцать глав (около 500 страниц) романа «Бесы». Додереровский «рыцарский роман» столь долго оставался манускриптом, вероятно, потому, что для него не нашлось издателя. Однако с «Бесами» дело обстояло иначе: Додерер сам воздержался от публикации, поскольку ему перестала нравиться тенденция, положенная в основу книги.
В 1931 году, приступая к «Бесам», он симпатизировал германскому национализму в Австрии. В 1938 году, когда работа над ними была закончена, Гитлер захватил Австрию. «Аншлюс» отрезвил писателя. В первый раз в жизни Додерер попытался приобщиться к политическому действию и обжегся. Это навсегда внушило ему страх перед всякой политикой, всякой идеологией, всякой ангажированностью, перед любыми стараниями ускорить движение истории.
В 1940 году он вторично стал солдатом, на этот раз капитаном «люфтваффе». Но, будучи человеком уже немолодым, служил главным образом в тыловых частях – на юге Франции, под Курском, в Норвегии, а некоторое время даже у себя дома, в Вене. Этот отрезок его жизни воспроизведен в рассказе «Под черными звездами» (1963). Там Додерер ощущает себя «подхваченным и влекомым широким потоком бессмыслицы», ибо видит в нацизме нечто глубоко чуждое, враждебное, «пруссацкое». И бессмыслица лишь усугублялась тем, что жил он в собственной квартире, носил после службы гражданское платье, соблюдал некий абсурдный «pax in bello» – «мир во время войны». Психологической проекцией и одновременно апофеозом всех этих бессмыслиц, всех этих абсурдов является странная история с семейством Гринго – возникший вокруг них культ и их странное самоубийство.
Мне казалось, пишет Додерер в этом рассказе, будто время остановилось. Мы выпали из него, от него отпали, как сухие листья, нам нечего было в нем делать.
В каком‑то смысле все шесть лет службы Додерера в немецкой армии были таким вот странным «pax in bello». Внутренне, как личность, как творческая индивидуальность, он и правда «выпал» из происходившего вокруг. Чуть ли не ежедневно вел дневник, который в 1964 году издал под названием «Тангенсы. Дневник писателя 1940–1950». Однако записям, касающимся текущих событий, отведено скромное место. И потом они чисто информативны, хроникальны, почти безличны. Он размышляет о литературе, о месте, миссии, долге писателя и создает на страницах дневника самое литературу. Но наиболее обширны в «Тангенсах» рассуждения о мире, о действительности, о человеке, рассуждения теоретические, философически‑абстрактные. Что, однако, бросается в глаза, так это антинацистская направленность его рассуждений, облекаемая в почти естественную для австрийца того времени форму направленности «антинемецкой». Додерер отметает пангерманский национализм, милитаризм, антигуманность; ему мучительно разгуливать по Норвегии в мундире немецкого офицера, «то есть означать именно то, чем себя не считаешь». А касательно третьего рейха писатель утверждает: «…он никогда не существовал, и я всегда это знал». (Не существовал, разумеется, в некоем «идеальном смысле», перед судом какой‑то «высшей справедливости».)
Сквозь это последнее высказывание проглядывает, впрочем, типичная для Додерера общественная пассивность. Он даже гордился тем, что «продержался в немецкой армии благодаря постоянному откладыванию любого поступка». Додерера‑человека и правда несла волна событий, но она вынесла на берег его книги. В этом есть свой парадокс, свое несовпадение между биографией и творчеством, но и свое между ними сродство.
О биографии осталось рассказать немного. После войны и плена Додерер снова – в который уж раз – воротился в Вену. У него не было имени, не было популярности, не было средств к существованию. Чтобы жить, он сдал трудный экзамен и вступил в Институт исследования австрийской истории. Но продолжал писать. Завершил начатый еще в 1938–1939 годах небольшой роман «Освещенные окна, или Человеческое становление советника Юлиуса Цихаля» (1951), дописал «Штрудльхофскую лестницу», переработал, развернул в колоссальную панораму роман «Бесы». Именно два эти «монстра» (в одном девятьсот страниц, в другом – много более тысячи) наконец сделали его знаменитым. Признание пришло сначала из Западной Германии, потом спохватились и в Австрии. Последовали переводы на иностранные языки, посыпались премии. Поговаривали даже о Нобелевской. Лишь в шестидесятилетием без малого возрасте Додерер стал писателем вполне профессиональным, существовавшим на заработки от своих книг, а не (как в 20–30‑е годы) на деньги отца или случайные журналистские гонорары. Однако работал он по‑прежнему: много писал, по публиковать написанное, как правило, не торопился. И к концу жизни количество неизданного накопилось. Также и поэтому – а не только по причине пришедшей к Додереру известности – его книги чаще стали появляться на прилавках магазинов. В 1959 году это был сборник рассказов «Истязание замшевых мешочков», в 1962 – роман «Меровинги, или Тотальная семья», в 1963 – «Роман № 7, первая часть: Слуньские водопады», в 1966 – сборник рассказов «Под черными звездами». Да и после смерти писателя, последовавшей в 1966 году, поток публикаций не иссяк. В 1967 году вышел в свет фрагмент второй части «Романа № 7» под названием «Пограничный лес»; в 1969–«Перетопит. Книга понятий о высших и низших делах» (над ней Додерер работал еще в годы войны); в 1976 – «Commentarii 1951–1956. Дневник из наследия».
Зигзаги додереровской биографии не всегда поддаются логическому толкованию. «Он, – пишет американский германист Ивар Иваск, – был, вне всякого сомнения, самым закомплексованным человеком из тех, каких я когда‑либо встречал». Додерер не был чужд суеверия, интересовался астрологией, штудировал сочинения современника Тридцатилетней войны иезуита Атаназиуса Кирхера, слывшего авторитетом в области «драконоведения», что нашло отражение в романе «Окольный путь». Прекрасная память, завидная работоспособность, педантизм соседствовали у него с леностью и безалаберностью. Из‑за чего друзья наградили его прозвищем «Геркулес Обломов». Стабильность его жизненных привычек доходила порой до смешного: новейшим техническим приспособлением, которое он терпел в своем быту, был телефон, а о магнитофоне, проигрывателе, телевизоре, автомашине и слышать не желал. Его литературные вкусы бывали непредсказуемы, и Даже друзей смущала та предвзятость, с какой он судил, например, о Томасе Манне или Адальберте Штифтере, хотя с творчеством последнего его многое связывало. Однако у него было немало друзей, и они его любили, потому что был он умен, тонок, образован, талантлив и по‑своему доброжелателен. Его книги столь же противоречивы, как и его жизнь.
* * *
«Роман, – сказал Додерер в одном из своих интервью, – всегда повествует о жизни, которая нас окружает, строится из тривиального материала, лежащего вокруг нас». Он не только не уставал повторять эту мысль, но и вступал в полемику с теми, кто ее оспаривал, кто отрицал сюжет, действие, характеры. «Задача, которая сегодня стоит перед романом, – читаем в его теоретической работе „Основы и функция романа“ (1957–1959), – вновь отвоевать внешний мир… Ибо творение все‑таки вещью, с этим ничего не поделаешь».
Доверие Додерера к непосредственно данной нам в ощущение действительности столь велико, что он зовет «полностью капитулировать» перед жизненной эмпирикой. Мысль попахивает натурализмом. Додерер сам это чувствовал. Слово «натурализм» то и дело всплывает в его статьях, дневниковых записях, афоризмах из книги «Repertorium». Он играет с понятием, разглядывает его с разных сторон и отбрасывает: «…Я не натуралист в собственном смысле слова…» И это правда. Для натуралиста материал много существеннее его расположения. А Додерер отстаивает «приоритет формы перед содержанием: лишь благодаря ей роман становится истинным произведением словесного искусства».
Подобный формализм неожидан для писателя, только что утвердившего вещность творения, значительность для литературы жизни, действительности, эмпирии. Но парадокс имеет свое объяснение. Содержание, по Додереру, – это не мир, каков он есть, а привнесенная в него сознанием субъективно‑пристрастная схема. Однако с ее удалением произведение разваливается, превращается в груду мертвой материи. Форма призвана этому воспрепятствовать, придать порядок, сообщить движение. Таким образом, форма для Додерера не модернистские упражнения со словом, не жонглирование метафорами, не членение и собирание заново элементов текста, то есть не нечто деструктивное. Форма для него, по сути, сводится к композиции. Одна из возможностей – композиция музыкальная. Додерер берет себе в учителя Бетховена и пытается сочинять романы, как симфонии, некоторые рассказы – как дивертисменты. Он не был первым на этом пути, до него нечто подобное предпринимал Джойс (которого он, кстати, не любил), а по‑своему и Пруст, строивший романы, как готические соборы. Но реально конструктивным был у Додерера иной принцип.
Из определений романа как жанра его более других устраивало то, которое давал швейцарский теоретик литературы В. Кайзер в книге «Развитие и кризис современного романа» (1955), поскольку оно исходит из места, из роли повествователя. Это, по мнению Додерера, самый надежный критерий, ибо как он пишет, «за последние двести лет роман эволюционировал от желанной объективности чистого действия ко все более откровенной субъективности, даже к произволу рассказчика, который собственный свой кризис превращает в кризис романа и заставляет роман распадаться там, где сам распадается». Додерер – поборник объективности. Тем не менее в большинстве его произведений – особенно поздних – между читателем и изображаемой действительностью стоит фигура повествователя, рассказчика. Мир, который он нам представляет, – мир рассказываемый. Это и обусловливает (по крайней мере в каких‑то ключевых моментах) конструкцию додереровских романов.
«Бесы» имеют подзаголовок: «Переложение хроники советника департамента Гайренхофа». Этот Гайренхоф – австрийский чиновник довольно высокого ранга и человек еще совсем не старый, – уйдя в отставку во второй половине 20‑х годов, принимается описывать жизнь кружка своих друзей (они у него именуются «наши») и их участие в некоторых – в том числе и политических – событиях. Время действия строго ограничено осенью 1926 года, с одной стороны, и началом лета 1927 – с другой. Время рассказывания, однако, растянулось на десятилетия. По сути, это то реальное время, в течение которого Додерер работал над «Бесами».
Свидетелем одних происшествий Гайренхоф являлся сам – и тогда рассказывал о них от первого лица. Сведения о других он получал из вторых рук – и тогда о них повествуется в манере эпической. А кое‑что он просил изложить на бумаге историка Рене фон Штангелера или писателя Каэтана фон Шлаггенберга и включал их слегка отредактированные отчеты в свою хронику.
Она не только стилистически пестра, нет в ней и порядка хронологического. Правда, начиная с «Увертюры», где собраны нити интриг, где задан ритм тяжеловесному романному движению, все так или иначе движется в сторону финала. Но по каким‑то сложным, спиралевидным орбитам, останавливаясь, повторяясь, возвращаясь вспять. И увлекая за собой все новых персонажей, все новые события. Постепенно возникает несколько эпицентров, вокруг которых, то удаляясь, то приближаясь, обрастая подробностями и вариантами, вращается действие. Одним словом, в плане архитектоники Гайренхоф разрешает себе субъективный произвол. Но только в этом плане.
А во всем остальном он – хронист, летописец. То есть начало объективное. Некто не имеющий роли в этой «человеческой комедии», силящийся встать «над схваткой». Шлаггенберг говорит ему: «Вы в некотором роде не имеете собственной жизни, все делаете по долгу службы… Но такие люди нужны…» «По долгу службы» писателя, как полагает Додерер, «ибо стать персонажем, – так он пишет в „Тангенсах“, – для писателя вещь совершенно немыслимая… Писатель – это прежде всего тот, кто не является ничем».
Гайренхоф – наиболее наглядный пример позиции додереровского повествователя. Очертания некоей фигуры приданы ему лишь в полемических целях: чтобы показать, что он – не фигура и фигурой быть не должен. Он не более как организатор действия. Иными словами, автор. И в других романах Додерера – в «Освещенных окнах», в «Штрудльхофской лестнице», в «Слуньских водопадах» – функции автора и повествователя совпадают, еще точнее, сливаются. Там перед нами некто пребывающий в пограничной ситуации: он – не персонаж, не исполнитель в спектакле и в этом смысле не личность. Но он видим, причем нередко в качестве Хаймито фон Додерера, пишущего этот роман в каком‑то нетоплен ном отеле в Норвегии.
Пограничная ситуация уже сама по себе располагает к соскальзыванию в иронию. Описывая в «Освещенных окнах» героя романа, мелкого чиновника Юлиуса Цихаля, повествователь в комическом отчаянии восклицает: «…Да, я знаю, эта фраза станет такой же бесконечной, как и длинные коридоры Центрального ведомства расценок и расчетов по платежам…» (там долгие годы служил Цихаль).
Это один из множества возможных примеров. Лишь непреложность объективного мира не подлежит у Додерера сомнению; что же до отношения с миром его персонажей, их отношений между собой и с автором, даже позиции самого автора касательно собственного повествования, то тут однозначности, определенности нет и в помине. Ирония если не снимает те или иные оценки, так значительно их ослабляет, сообщая им не то чтобы двузначность, а как бы необязательность.
Однако непреложность объективного мира, хоть и вынесенная за скобки додереровской иронии, в системе романной архитектоники порой превращается в источник этой самой иронии. Додерер пишет: «„Хитрость“ рассказчика – как говаривали рыцарственные поэты средневековья, имея в виду то, что мы ныне зовем „композицией“, – „хитрость“ эту в романе следует воспринимать чуть ли не иронически, как общую слабость автора и читателя, как символ зависимости от материального, символ подчиненности физике». Иначе говоря, нужно видеть в композиции лишь средство проникновения в жизненную реальность, средство, не серьезное по форме и серьезное по цели.
Посредничество повествователя имеет я другой смысл, ничуть не менее важный: оно создает дистанцию. Из значительных своих произведений Додерер только «Иерихонские трубы» сочинял в 1951 году, так сказать, по свежим следам происходивших в его жизни событий (хотя и выпустил в свет этот «дивертисмент» четырьмя годами позже). Правда, так (или почти так) сочинял он и первые семнадцать глав «Бесов». Но к моменту завершения романа изображаемое в нем время превратилось, как мы уже знаем, в довольно отдаленное прошлое. Не исключено, что именно пороки довоенного варианта «Бесов» побудили Додерера возвести более или менее случайное стечение обстоятельств в некий творческий принцип. Он состоит в следующем: настоящей материей романа может стать лишь то, что в жизни уже окончательно минуло, завершилось и тем самым определилось в смысле своей роли, своей весомости, что прибилось к берегу капризной, изменчивой, неверной реки текущего бытия, стало неподвижным и обозримым. Задача писателя возвратить это минувшее. Но, утверждает Додерер, «возвращено может быть лишь то, что прошло, по‑настоящему прошло лишь то, что возвратимо. Настоящее писателя – это его возвращенное прошлое…»
Медиум возвращенного прошлого – воспоминание. «Человеку стоит начать взаправду вспоминать, и он уже поэт», – сказано у Додерера. Это похоже на Пруста, но лишь в самом первом приближении. Прустовскими воспоминаниями управляли ассоциации (вкус бисквита, которым героя кормили в детстве, ему это детство возвращает), а у Додерера они «свободны», «самопроизвольны»; так он по крайней мере утверждает:
В «Весах» воспоминаниями в основном управляет воля, замысел Гайренхофа, окончательно складывающего свою хронику двадцать восемь лет спустя. В «Штрудльхофской лестнице», как мы уже знаем, демиург – сам автор, то есть плоть менее осязаемая и, следовательно, вроде бы более ограниченная в своем своеволии. На деле же выходит иначе. И не в последнюю очередь потому, что действие «Штрудльхофской лестницы» в отличие от «Бесов» развертывается в двух временных планах сразу.
«Мельцер и глубина лет» – так звучит вторая половина заглавия романа. «Глубина лет» – это не только то, что отделяет рассказчика 40–50‑х годов от его много ранее живших героев, по и то, что отделяет лейтенанта Мельцера 1910–1911 годов от майора и советника Мельцера годов 1923–1925. Одновременность сосуществования всех этих уровней, горизонтов действия и рассказывания еще более усложняет композицию произведения.
Что в нений данный момент всплывает то, а не другое воспоминание, изредка мотивируется совсем по‑прустовски – через ассоциации самих персонажей. Однако гораздо чаще перемещения во времени обусловлены, так сказать, непосредственными потребностями автора. В сущности, все определяют только эти потребности, но автор охотно их маскирует под небрежность, под произвол, даже под продукт безудержной, «свободной» болтовни. Он (подобно Лоренсу Стерну, а может быть, и опираясь на традиции последнего) затевает некую игру со временем: «Как‑никак Грете Зибеншайн в той точке, на которой мы сейчас остановились, а именно ранней осенью 1923 года, минуло уже двадцать восемь лет»; или: «В бывшую квартиру Цихаля Паула переехала со своим мужем после первой мировой войны. До этого было еще далеко. Сейчас ей не было шестнадцати». В результате возникает впечатление какой‑то калейдоскопической фрагментарности.
Оно лишь усиливается тем, что, обратившись к какому‑нибудь эпизоду из жизни своих многочисленных героев (даже такому, что впоследствии окажется весьма существенным), Додерер не пересказывает его до конца, а только к нему прикасается. Причем по многу раз, сообщая ту или иную подробность, деталь, аспект еще не известного читателю целого.
Композиция у Додерера нацелена на выявление, вылущивание связей и взаимозависимостей. «Штрудльхофская лестница» начинается в 1923 году с жизни Мери К. (урожденной Аллерн). Время и лицо выбраны будто случайно. Особенно лицо: роль Мери – по крайней мере количественно – крохотна. Но именно от Мери начинается собирание, складывание романа. За нею когда‑то, еще до войны, ухаживал Мельцер; ее сегодняшними соседями по дому являются Зибеншайны, а через Грету Зибеншайн, невесту Рене фон Штангелера, в роман входят он сам, его родители, его сестры, все его окружение и т. д. и т. п. Не каждый из этих многочисленнейших героев предназначен для того, чтобы читатель прочно его запомнил. Они важны, взятые вместе, как совокупный образ жизни. Таков додереровский принцип. И его можно проследить во всех додереровских романах, вплоть до «Слуньских водопадов».
Примерно так же, как «Штрудльхофская лестница», начинаются и «Бесы». Но там прием совсем уж обнажен и под него подведена теоретическая основа. Гайрснхоф размышляет, с какого бы места запустить механизм своей хроники, и приходит к выводу, что это, в сущности, безразлично: «Конечно, сегодня, „зная все“, я отношусь к разряду обернутых вспять пророков. А все же стоит и правда в любом месте дернуть за ниточку в пряже жизни, и она потянется вся… Ибо в мельчайшем отрезке каждой житейской истории заложена ее целостность…»
Жанр крупных своих полотен Додерер определял как «тотальный роман», то есть нечто не только по возможности всеобъемлющее, всеохватное, но и более или менее условно извлеченное из потока действительности, не имеющее ни истинного начала, ни истинного конца, внутренне неоформленное, незавершенное.
«Ниточка в пряже жизни», за которую дергает в в начале своей хроники Гайренхоф, – это его встреча ранней весной 1927 года на Грабене, невдалеке от башни собора св. Стефана, с неким Левьелем. За ней потянулось многое, и все‑таки потянулось далеко не все.
Не потому, что Додерер слаб в композиции. У него свой к ней подход. Жизнь, уложенная в наперед заданные сюжетные схемы, грозит приобрести черты искусственности. И он предпочитает искусственность в оформлении материала.
Истории, ничем не кончающиеся, истории «открытые», да еще преподносимые по частям то и дело уклоняющимся в сторону рассказчиком, как ни странно, порой лучше стыкуются, чем замкнутые в себе, завершенные фабульные линии, определеннее выявляют себя в качестве слагаемых неоднородного, сложного и в то же время нераздельного целого – жизни. Введение в мир романа «Штрудльхофская лестница» десятков персонажей воспринимается не как прихоть автора, а скорее как нечто само собою разумеющееся, хотя они и появляются лишь потому, что оказываются родственниками, знакомыми, что сидят рядом с кем‑то за столиком венского кафе или просто кому‑то вспомнились.
Возникает особый мир, не только единый, но по‑своему достоверный, по‑своему непреложный, в котором живут обломки аристократии и проститутки, директора банков и бандиты, чиновники и мелкие торговцы, отставные военные и консьержки, врачи и секретарши, библиотекари и горничные – пестрый мир изменчивой и вечной Вены. Иллюзию достоверности укрепляет на каждом шагу документируемая материальность. Герои ходят по реально существующим (или существовавшим) венским улицам, живут в реально существующих (или существовавших) венских домах, подробно, любовно, добротно описанных.
Штрудльхофская лестница, давшая имя одному из додереровских романов, тоже существует реально. Кто побывал в Вене, мог ее увидеть. Однако для Додерера и его персонажей лестница эта не просто элемент венской топографии, деталь ее архитектуры. Она – один из композиционных центров и одновременно символов романа. О Мельцере мы читаем: «Он жил, так сказать, вокруг Штрудльхофской лестницы, не только территориально, по и внутренне, двигаясь по все более сужающимся окружностям, уже почти водоворотам». И еще: «Около половины девятого он пошел. К лестнице, конечно. как к пупу некоего мира». Важнейшие события романа происходят на лестнице или вблизи нее: на Порцелянгассе, у «домов‑близнецов» Мизеровского; герои там знакомятся, постоянно между собою встречаются, идут туда, как Мельцер, когда им плохо и когда хорошо.
Некоторые считают Додерера венским бытописателем. Однако с тем же почти основанием Бальзака можно было бы назвать бытописателем Парижа. Вена для Додерера, как и Париж для Бальзака, своего рода модель современного ему мира.
Критика нередко сопоставляет Додерера с Бальзаком. Их сближает приверженность осязаемой, вещной поверхности бытия. Оба они стремились заглянуть во все сферы общества, вскрыть широчайшие пласты жизни и творили при этом свой собственный мир, чуть ли не собственный космос. Даже приемы такого творения у Додерера сходны с бальзаковскими. Это циклизация и так называемые «возвращающиеся персонажи», непосредственно реализующие связь между отдельными произведениями.