Федор Фёдорович Кнорре
Оля

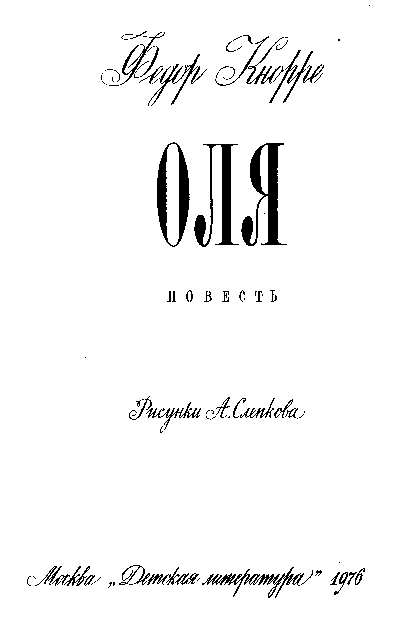

Глава первая
В самый разгар зимы, приехав в этот совсем чужой город, Елена Павловна Рытова с дочкой Олей вышли из тёплого вагона, прошли через вокзал и увидели сплошь занесённую снегом вокзальную площадь. Они спустились по ступенькам и остановились, оглядываясь по сторонам, не зная, куда двинуться дальше.
К счастью, они, наверное, тут не первые были, кто вот так же, сойдя с поезда, стояли и раздумывали: что делать дальше?.. Почти тотчас же к ним, скрипя по снегу, подъехали санки. Очень длинный худой человек тянул их за собой на пушистой, белой от инея веревке.
– Отвезём вещички! – сказал человек. – Куда будем ехать?
– Я думаю, в гостиницу, – нерешительно сказала мама. – Тут есть гостиница?
– Четыре, – сказал человек. – И в каждой местов свободных не найдёте. Вы же не командировочные?
– Нет, мы пожить… На некоторое время… Месяца на…
– Помесячно, – заключил человек и молча стал укладывать на свои санки багаж.
– Куда это мы? – спросила мама растерянно.
– По адресам поехали. Куда же ещё?
Он впрягся в верёвку, налёг на неё грудью, и шея у него при этом так далеко высунулась из просторного ворота засаленного пальто, что он стал похож на жирафа в упряжке.
Санки взвизгнули, тронулись и поехали.
Оля шла за санками и думала: настоящим жирафам длинная шея помогает доставать листочки с верхних веток деревьев, но зачем такая шея этому человеку?
По узким переулкам, окаймлённым валами сугробов, они выехали на большую улицу, свернули с неё в переулок, опять куда‑то свернули. Оля ничего не запомнила, кроме того, что было много снега, всё было чужое, у неё замёрзли щёки и что их никуда не впускали.
Объехав три или четыре неподходящие квартиры, они добрались до странного старого дома. Первый этаж у него был кирпичный, а второй – деревянный, со следами вывески какой‑то лавки, от которой остались только отдельные буквы. Дверь в эту бывшую лавку наглухо была заложена кирпичом, и за окнами весело цвели красные цветочки, прильнув к самому стеклу.
Оля устала, всё ей не нравилось, и все хозяйки были противные и заламывали за комнату столько, что мама не могла платить, а когда они поворачивали уходить, им не отвечали на "до свидания" или предлагали плату чуть‑чуть подешевле.
А тут всё сразу же вышло по‑другому: мама, стесняясь, спрашивала, а старушка хозяйка ещё больше стеснялась отвечать и, стыдливо показывая комнату, обращала внимание на то, что один угол сыроватый и стекло треснуло, и, узнав когда и откуда они приехали и в котором часу пришёл поезд, ужаснулась, что они замёрзли, и скоро всё устроила так, что сели пить чай все, даже человек с санками и жирафьей шеей.
Тут они и поселились. Хотя скоро оказалось всё не так хорошо, потому что хозяина Ираида Ивановна была не совсем тут хозяйка. Дом‑то считался её, но владели им фактически её две дочери, два дочерних мужа и ещё сестра одного мужа, не считая "ихних отпрысков", как, извиняясь, объясняла хозяйка.

К вечеру все эти мужья и сестры собрались у себя внизу, и слышно было, как они спорят и гудят под полом в нервом этаже, и потом заскрипела деревянная лестница и скрипела очень долго, с промежутками: кто‑то очень медленно поднимался, приостанавливаясь через каждые две‑три ступеньки.
Наконец появилась хозяйка Ираида Ивановна и, виновато глядя вбок, попросила паспорт. Похоже было, она боится, что вдруг правильного паспорта не окажется, и когда Олина мама подала ей книжечку в чистой обложке, она бережно приняла её, как стеклянную, и понесла перед собой, как несут подавать к столу блюдечко с чашкой чаю, налитой до самого края.
Она понесла паспорт вниз, и там опять загудели мужские голоса, и долгое время спустя опять появилась Ираида Ивановна и с облегчением объявила, что паспорт хороший, с этим всё в порядке, и видно было, она этому ужасно рада, но что‑то другое её мучает и томит, и она не знает, как начать.
Оказалось, что мужья и сестры, когда там гудели, пилили её и грызли, что она слишком дёшево сдала комнату, потому что летом они сдавали её подороже.
– Хорошо, – сказала мама, – мы завтра съедем, вы их успокойте.
И тут Ираида Ивановна, согнувшись, села на табуретку, фартуком закрыла лицо и заплакала.
Сквозь её тихий плач можно было разобрать, как она стыдит и усовещевает тех, кто её послал:
– Как это равнять можно – что летом, что сейчас? Летом сюда как на дачу приезжают… Купанье на речке, грибной лес близко, люди интересуются… А сейчас совсем другое дело, даже равнять нельзя. За комнату сейчас никак нельзя дороже спрашивать… Прямо бессовестно даже…
Мама сперва вспыхнула, рассердилась, ходила по комнате и самоуверенно повторяла: "Съедем, пожалуйста, раз у людей нет слова", а Ираида Ивановна горевала, как будто это её с квартиры гонят, и видно было, сама не знала, как быть.
– И ведь всё равно комната будет пустая до самого лета стоять, приезжих никаких сейчас нет, а постоянных пускать нельзя – пропишутся да и не выедут.
Слушая со стороны, можно было подумать, что мама сдаёт комнату и капризничает, а Ираида Ивановна старается её уговорить и сбить цену, – такой странный шёл разговор.
Наконец мама сказала:
– А что же вы‑то расстраиваетесь, не пойму?
– До того не хочется, чтоб вы уезжали. Да ведь и совестно: я вам цену назначила, а теперь вдруг пришла прибавку спрашивать. Разве так по‑людски поступают?
Мама наконец засмеялась и согласилась платить побольше, так ей стало жалко старуху. А та успокоилась, но сто раз повторила, что ей совестно и так делать некрасиво, и тут же постаралась замолвить словечко за дочерей с мужьями, что они, конечно, все хотят получше жить и многого им в хозяйстве не хватает.
В общем, было похоже, что сама‑то хозяйка тут последний человек в доме. Да так оно и оказалось.

Глава вторая
Начался первый бесконечный день на новом месте.
Печка дымила и не желала нагреваться. Елена Павловна с Олей давно уже, не снимая пальто, сидели рядышком на кровати и смотрели, как дым, не желая уходить в трубу, клубился в топке вокруг слабых огоньков, то вспыхивающих, то гаснущих с шипеньем на сложенных поленьях.
– Она нарочно не загорится, пока мы тут сидим! – сердито сказала Оля, растирая красные глаза. – И чайники такие есть – ни за что не закипит, пока ты на него смотришь!
Полено громко стрельнуло, и маленький уголёк выскочил на железный лист. Столбик дыма пыхнул в комнату, превращаясь на лету в завиток, повернул и проворно нырнул обратно в топку. Там что‑то произошло: без толку метавшийся дым вдруг точно опомнился, заторопился, устремляясь вверх по дымоходу, огонь свободно вздохнул, ожил, заиграл и с весёлым потрескиванием осветил кирпичные закопчённые стенки. Печка мало‑помалу разгоралась, и комната стала похожа на жильё, а не на заброшенный чердак.
Ираида Ивановна прискрипела к ним вверх по лестнице, очень удивилась и даже похвалила печку за то, что та так быстро растопилась, – видно, никак она этого не ожидала от неё. Предложила теперь сама присмотреть за ней, как она будет себя вести, и подложить ещё дров, если жильцы хотят куда‑нибудь уйти…
Они пошли немножко оглядеться в городе, куда приехали. Походили по улицам, совсем замёрзли, отогрелись, пообедав в довольно плохой столовой, которая называлась почему‑то "Ресторан «Днепр», и поплелись просто так, от нечего делать, на почтамт – просто потому, что это было такое место, куда приходят письма из других городов до востребования.
Конечно, девушка за окошечком сказала:
– Писем вам нет!
А они и сами знали, что от папы не могло им быть письма, даже если бы он вдруг решил написать сразу же после того, как проводил их на вокзал. А он, безусловно, не стал бы им писать в тот же день. Да и в следующий… И вдруг девушка вытащила и положила на прилавок какой‑то квадратик:
– А перевод денежный есть!
Мама слегка испугалась, даже руку отдёрнула, чтоб не взять чужого, – никакого перевода быть не могло. Однако на бланке стояла её фамилия, её имя и сумма 600 рублей. В те, довоенные, годы эта сумма тоже была очень значительной, а уж для них двоих сейчас даже очень и очень!
Оля затаив дыхание следила, как мама, вдруг улыбнувшись, стала расписываться, потом как‑то неуверенно взяла деньги.
Продолжая улыбаться, чуть пожимая плечами с грустным недоумением, мама молча вышла на улицу, стесняясь говорить при посторонних.
– Знаешь, это от дедушки! Подумай только, он мне давно на письма не отвечал. Присылал ровно по две открытки в год, на праздники.
– А теперь вдруг взял, да и ахнул! Ты подумай! Шестьсот! Что мы делать с ними будем? Да как он узнал, что мы тут?
– Я‑то ведь ему писала всегда. И что мы с тобой собираемся уезжать – тоже написала. А перевод телеграфный.
– Значит, он раскаялся и тебя простил, и теперь можно купить пирожных. Я его тоже, пожалуй, прощаю…
– Олька, прекрати петрушничать! Это совсем не смешно и не весело… Может быть, как‑то нехорошо даже.
Они пошли по магазинам, купили хлеба, масла, яиц и какой‑то странной местной тонкой колбасы колечками.
– Теперь домой? – хныкнула Оля. – Я ух как замерзла…
Они вышли из незнакомого магазина. Прошли по чужим улицам до своего переулка, который вовсе не был для них своим. И вот оказались «дома». В чужой, необжитой комнате.
Чайник дожидался их в хорошо протопленной печке. Воздух был тёплый, но стены ещё не прогрелись – видно, тут давно не топили.
Пока они возились, раскладывая вещи, стелили постели, усаживали на удобное место Тюфякина, а потом пили чай с пирожными, которые мама всё‑таки купила, всё шло ещё так‑сяк. Но вот когда всё было готово и делать стало нечего, они оглядели свое жильё, и обеим вдруг разом стало очень тоскливо.
Оля внимательно оглядела, стоя посреди комнаты, стены, печку, потолок, медную настольную лампочку с колпачком в виде стеклянной лилии на согнутом стебельке.
– Совершенно посторонняя комната!
Оля подошла к тёмному окну и прижалась носом к стеклу. На минуту можно было разглядеть крутые скаты домов и сараев, укрытые толстыми перинами пухлого снега, но тут же налетал новый порыв вьюги, и всё застилало мчащейся белизной. Она крутилась, постукивала о стекло, и в печной трубе откликалось: гудело и посвистывало, почти заглушая звук картонного репродуктора на стене, бодро, но слабо наигрывающего знакомый марш из кинофильма "Если завтра война".
– Тюфякин очень упал духом, – заметила Оля, когда они ещё только садились к столу пить чай.
Мама чуть усмехнулась:
– Просто он ещё приглядывается, что к чему, куда его занесло.
Они обе одновременно невольно обернулись на Тюфякина, сидевшего, по обыкновению прислонившись к спинке в уголке дивана и как‑то неопределённо смотревшего прямо перед собой.
Очень трудно было бы определить в точности, что из себя представляет Тюфякин. С первого взгляда был он похож, пожалуй. на маленького кудлатого пёсика, спокойно сидящего на собственном хвосте, широко растопырив передние толстые лапки, как будто собираясь кого‑то обнять. А может быть, желая выразить таким образом своё крайнее изумление окружающим.
Но самое удивительное, в особенности при его тщедушном тельце, была его крупная лохматая голова с круглыми ушками и широкой добродушной физиономией, которую никто бы не мог назвать мордой, сквозь завитки шелковистой шёрстки проглядывали с доброжелательной хитрецой очень живые зелёные глазки.
– Нет, – решительно заключила Оля. – У бедного старичка подавленное состояние его тюфячьего духа. Очень. Сразу видно.
Весьма вероятно, что спокойно сидевший в уголке Тюфякин был не виноват, но чаепитие прошло как‑то скучно, даже пирожные не доставили обычного удовольствия.
Елена Павловна встряхнулась и усмехнулась невесело:
– Вот бы нас кто‑нибудь увидел сейчас. Как раскисли, притихли. Что бы про нас люди сказали?
– Если б нас увидел папа, я знаю, что бы он сказал.
– Ну?
– Он бы сказал: "Ага!"
– Он не сделал бы при этом такой злорадной рожи….
– Но "ага!" он мог бы сказать? Ты это признаёшь?
– Ну что ж, если бы и сказал, то был бы прав… Но только временно. На сию минуту.
– А чего ты, мама, расстроилась, когда деньги получала? Ты мне скажи, тебе же легче будет, если от меня ничего не будешь скрывать.
– Дрянная ты девчонка, – печально сказала мама. – Как ты со мной разговариваешь? Твой папа был прав: не умею я тебя воспитывать… Как ты себя ведёшь? То будто ты мне ровесница, а то дуришь так, что и семилетней было бы стыдно. Скачешь по разным возрастам туда‑сюда, как котёнок по клавишам рояля. Я совершенно не умею поддерживать родительский авторитет, а ты и рада стараться! Разве это хорошо?
Оля стремительно вскочила с места, обежала вокруг стола и, крепко обняв мать сзади, несколько раз поцеловала в шею, громко сопя и приговаривая:
– Мамочка, ты же мой один‑единственный, великий, любимый авторитетик!..
– Не щекочи меня! – рассмеялась, отворачиваясь, мама.
– Сама знаешь!.. И потом поддерживать‑то только то надо, что криво стоит или валится набок, а тебя не надо поддерживать.
Втиснувшись рядом с мамой на сиденье стула, Оля поцеловала её в щёку:
– Тебе плакать хочется.
– Ни капельки не хочется.
– Тебе хочется, но ты не ЖЕЛАЕШЬ плакать!.. Так что про деньги?..
– Хватит тебе… с деньгами – это уже прошло. Глупость. Мне в первую минуту показалось, что дедушка… то есть твой дедушка, мне‑то он отец, мог по моему письму решить… ну, что мы совсем с Родей рассорились. Но это глупости, ничего он такого не подумал, он правильно понял, что я просто поступила как‑то по‑своему… Вот уехала с тобой… да, может быть, против чьей‑то воли… И дедушка сразу захотел меня поддержать, помочь, вот и всё. Больше ничего за этим не кроется.
– Молодец дедушка, я хоть никогда и не видала, а попробую его начать любить. Правда, стоит? Раз он тебя любит. Он ведь любит?
– Любит, и ещё он любит, чтоб любопытные девчонки ложились спать вовремя. Марш в постель!
– Скачу в постель! Только лампу не гаси, ладно? А то ещё неизвестно, какая эта комната окажется, когда лежишь в темноте. Полежим, попривыкнем немножко, ладно?
Оля разделась и залезла на диван под одеяло, мама легла в постель у другой стены. Между ними стоял только стол с медной лампочкой.
– Если она цела, – заговорила Елена Павловна после небольшого молчания, – у дедушки в Ташкенте, в его домике, до сих пор должна стоять моя детская лампочка. Керосиновая. Вокруг всего абажура переводными картинками изображены похождения хитрого жёлтого зайца, который марширует с длинню‑ющим ружьём на плече.
– А откуда он его взял?
– Стащил у глупого охотника. Тот заснул, а заяц из кустов подглядел… Я перед сном всегда любовалась на этого зайца, хотя он был похож больше на кенгуру.
– Ещё что‑нибудь про зайца! – клянчила Оля. – Ну, мама!.. – Теперь ей действительно можно было дать лет семь, не больше. – Ну, а охотник был какого цвета?
– Зелёного. Зелёный костюм и гетры до колен, на пуговках. Нечего больше про зайца: стащил ружьё и торжествует. Спать надо.
– Спокойной ночи. Только честно: не гаси света, пока я не засну. Мне сейчас шесть годиков. Спокойной!.. Сплю.
Довольно долго в комнате слышалось только замирающее и вновь оживающее подвывание ветра в трубе и мягкое шуршание от ударов снега в стекло.
Обещавшись спать, Оля честно лежала с плотно закрытыми глазами и вдруг, не раскрывая глаз, после долгого раздумья выговорила:
– Нет, пожалуй, он не сказал бы "ага!".
– Ты это сама придумала. Спи, пожалуйста.
– А вдруг он сейчас сидит там, у нас дома, и думает о нас, и ему грустно и очень жалко, что так получилось, и ему грустно, что нам грустно, и…
– Пожалуйста, спи. Прекрати болтовню. Больше ни слова.
Слегка надувшись, Оля замолчала, потом приоткрыла один глаз, покосилась и, ни к кому не обращаясь, кротким голоском пролепетала:
– А сама смотрит в потолок.
Мама действительно, закинув руки за голову, смотрела в потолок задумчиво, слегка прикусив, по своей привычке, губу.
– Конечно… – неуверенно проговорила мама. – Конечно! – сказала она уже потвёрже и вдруг, тихонько улыбнувшись, с нежной и радостной уверенностью воскликнула: – Конечно, ему очень грустно! Но пройдёт же и кончится эта вьюга, он приедет к нам, мы будем опять все вместе и всё будет так хорошо!
– Весной? Когда скворцы? Вот заживём! Мамочка, раз нам стало сейчас всё равно уж так весело, давай съедим ещё по одному пирожному. Они, знаешь, довольно вкусные! Чтоб уж совсем‑совсем повеселеть!
Грустил или негодовал в этот вечер в далёком городе Родион Родионович – муж Елены Павловны, Олин отец (а он, скорее всего, и грустил и негодовал вместе), он очень был бы удивлён, увидев происходящее в комнате.
Выбравшись из постелей, в длинных ночных рубашках, мама и Оля, смеясь над собой, торопливо поёживаясь от прохлады, ели пирожные.
Ещё дожёвывая сладкие крошки, Оля взяла на руки Тюфякина. Глубоко спрятанные в завитках шерсти зелёные глазки весело блеснули в свете лампочки.
– Старичок мой, деточка! – пропела Оля. – Видишь? Всё ещё уладится.
Как две нашалившие девчонки, мама и дочка разбежались по постелям.
Глава третья
Началась и пошла довольно скучная, однообразная жизнь. Оля поступила и начала ходить в школу. Там ей не очень понравилось. Всё новое. Непривычное. Ребята ничего себе, есть неплохие, но и противные попадаются. Подружиться как‑то вроде не с кем.
До весны ещё ой как далеко! По вечерам скучно, рано темнеет, из щелей в окнах дует…
Мама сидит, накинув на плечи куртку, листает конспекты, выписывает помногу из книжек в свои тетради, готовится к экзаменам в какой‑то техникум или институт, где можно научиться стать работником печати: писать в журналы. В далёкие легендарные времена, когда Оля ещё не успела на свет родиться, мама немножко начинала работать в какой‑то областной газете. Сто… или десять (для Оли это одно и то же) лет тому назад…
Только к концу вечера хозяйка – хотя какая она хозяйка, просто работница у своих двух дочерей, ихних мужей и сестры одного мужа и всех ихних отпрысков, – закончив все работы в нервом этаже, поскрипывая по лестнице, поднималась на второй этаж, и все втроём садились пить чай и разговаривать.
Ираида Ивановна, усталая, еле добиралась присесть к столу и каждый раз говорила жильцам: "Я к вам прямо как в дом отдыха прихожу, просто совестно. И вы опять мне чай наливаете!.."
Оле очень хотелось бы, чтоб вдруг оказалось, что эти мужья и сестра мужа вдруг оказались бывшими городовыми или крупными помещиками‑белогвардейцами, но, к сожалению, все они работали какими‑то учётчиками, товароведами, прорабами – кто на какой‑то базе, кто ещё где‑то.
Ираида Ивановна ходила на базар и в лавку, таскала дрова и выносила мусор, топила печи и нянчила отпрысков, а по вечерам, когда пила чай в "доме отдыха" у своих жильцов, всегда объясняла, что дочери с мужьями в этом не виноваты, потому что они молодые и им "всё нужно". Даже когда они после бани по субботам пили пиво и не в лад затягивали песни из кинофильмов, всегда сбиваясь после первого куплета, потому что забывали слова, и ревели, повторяя всё одно и то же, перекрикивая друг друга, она как‑то извинительно улыбалась и говорила, что вот, дескать, молодым "всё нужно", хотя эти мужья были здоровенные мужики лет за сорок.
И ещё она, стеснительно и мило подшучивая над собой, оправдывалась, что сегодня что‑то замоталась и приодеться всё некогда, даже вот когда люди к чаю приглашают. Выходило, сама она, а не кто‑нибудь, виновата, что всё ходит в старой стёганке и тёмном ситцевом платье зимой.
Из своей тесной комнатушки на втором этаже рядом с терраской она выносила иногда и давала рассматривать Оле плюшевый альбом с фотографиями. Он был когда‑то голубого цвета, с бронзовыми уголками. Оля называла его (про себя) не плюшевым, а плешивым, до того он был потёртый и выцветший. Но там, где сохранились островки ворса, альбом был красивого нежно‑голубого цвета.
"Скучноватая штука – эти чужие альбомы", – думала Оля. Судя по картонным фотографиям, вставленным уголками в прорези его толстых страниц, предки и родственники хозяйки были очень разные люди: какие‑то бородатые мужчины в сюртуках и брюках, надетых поверх грубых высоких сапог, вдобавок совсем задавленные крахмальными воротничками, не дававших им повернуть головы. Один был какой‑то весь в курчавой пушистой бороде, усах и бакенбардах, как бывает у кудлатых собак, и поэтому казался симпатичнее других. Дальше шли военные и невоенные в туго застёгнутых мундирах и с выпуклыми буквами и значками на погонах, сюртуки, ордена, подвязанные к шее, толстые цепочки на жилетах. Лица занимали очень мало места на карточках, так что Оле начинало казаться, что фотограф снимал главным образом мундиры, шляпы, ордена и высокие кресла на фоне белых колонн, нарисованных сзади.
Кое‑где вперемешку с мундирными господами и дамами в больших шляпах с перьями попадались совсем другие карточки, с которых хмуро таращились простецкие угрюмые дядьки в косоворотках и сборчатых поддёвках. Они явно показывали, что совершенно не замечают, не подозревают даже о том, что бок о бок с ними, примостившись на стульчике, покорно сидят какие‑то гладенько причёсанные женщины с таким испуганным видом, точно они заранее знают: вот сейчас, только щёлкнет фотограф, снимая карточку, дядьки тут же схватят да как начнут таскать их за косы!

Потом объяснилось: альбом этот Ираида Ивановна давным‑давно выменяла на свёклу на базаре в голодные годы вместе с фотографиями. Дам в больших шляпах и богато одетых мужчин она сохранила для украшения – они ей очень нравились. А на свободные места она вставила карточки своих дядей, тёток, дочерей и потом уж стала понемногу перетасовывать фотографии, как колоду карт: вставляла фотографию дочки рядом с молоденьким скромным студентиком в мундире – ей казалось, у него как будто добрые глаза. И ей, наверное, нравилось себе представлять свою дочку счастливой рядом с ним, а не с тем, который в нижнем этаже за пивом пел песню из кинофильма.
Альбом этот она тщательно прятала от своих и потихоньку показывала его Оле.
Оле всё это очень скоро надоело, и она только из вежливости брала в руки альбом, понимая, какое хозяйка оказывает ей доверие, какую тайну, скрытую от других, ей доверяет. Она уже запомнила все фотографии, все сюртуки и причёски. Она выбрала одного, самого противного старого господина с булавочными глазками, который вроде бы улыбался, но удивительно мерзкой улыбкой – углы рта оттянув вниз, отчего был похож на бульдога. Оля предложила Ираиде Ивановне пересадить его на одну страничку с сестрой мужа её дочки, жившей внизу, и тут впервые увидела, что хозяйка умеет смеяться. Та ахнула, закрыла лицо руками и долго беззвучно хохотала над этим предложением – ей это доставило настоящее удовольствие. Свой альбом с перетасовками она, видно, принимала как‑то почти всерьёз, он и вправду что‑то значил в её убогой жизни. Она заливалась беззвучным смехом и укоризненно повторяла:
– Ай, нехорошо… нехорошо так! – и опять смеялась, представляя, каково этой бабе будет рядом с "бульдогом".
В самом почти конце альбома среди карточек отпрысков, девочек и мальчиков, была одна не очень ясная фотография – девочка лет десяти с распущенными волосами, с нежным и тонким личиком сидела, опершись о столик голым локотком тонкой руки, подперев подбородок кулачком, и серьёзно, с доверчивым ожиданием всматривалась куда‑то перед собой…
Девочка всё больше нравилась Оле, и однажды она не вытерпела и спросила:
– А эта вот девочка… Я бы с ней, наверное, могла подружиться. Она сейчас здесь?
Ираида Ивановна почему‑то засмеялась, прежде чем ответить.
– Она тут в городе живёт? – допытывалась нетерпеливо Оля. – Ну, скажите.
– Тут в городе.
– А можно с ней познакомиться? Ну хоть скажите, она правда славная?
– Это такой трудный вопрос!.. – уклончиво заулыбалась Ираида Ивановна. – Я даже не задумывалась…
Оля всё приставала с расспросами, ей уже представилось, что наконец у неё в городе появится такая подружка, уже по личику её, по одному этому взгляду она угадывала, что подружка!
– Она к вам ходит когда‑нибудь? Как её зовут?
– Не приставай! – вдруг вмешалась мама. – Вот уж и загорелась, выдумала себе! Спать, пора в постель!
Оля легла и, засыпая, слышала, как мама всё ещё продолжает разговаривать с Ираидой Ивановной, вполголоса, в её комнате.
Проснувшись на другое утро, Оля заметила, что у мамы немножко заплаканные глаза.
– Да, – созналась мама. – Плакала. Я, а не она… Ты вчера всё про девочку расспрашивала. Знаешь, её зовут Ира. Правда, славная? И как она радостно смотрит куда‑то, в своё будущее. Ты всё хорошо подметила, жалко только, что она так далеко от нас живёт. Почти шестьдесят лет ходьбы, если повернуть назад и пуститься в прошлое… Ира. Да, Ираида Ивановна. Это её детская фотография. Она мне рассказала вчера. К стыду, вдруг я расплакалась, а она, на меня глядя, немножко всплакнула, просто из благодарности, что меня это может трогать… Она ведь и сейчас очень хорошая, только жизнь её сделала очень уж непохожей на эту карточку в альбоме.
Оля долго глядела в угол, хмурясь, позабыв натягивать чулок, который держала в руках. Потом вздрогнула и быстро стала одеваться.
– Невозможно, не могу себе представить… А ты можешь?
– Кажется, могу, – сказала мама. – Это всё не так просто. Ничего не даётся без борьбы.
– А с чем же бороться? Со старостью?
– Глупости; конечно, нет. Просто за себя, за свою жизнь… За жизнь, достойную человека… Ну, живо собирайся, тебе в школу!.. Я плохо спала, знаешь, всё какую‑то свою чепуховую сказочку обдумывала. Если получится, я тебе после покажу… Мне в сказке легче объяснить. Ты знаешь, какая я несерьёзная…
– А как она называется? Как? Только ты не отвиливай: получится не получится, мне всё равно надо. Ты смотри записывай, а то ты придумаешь да и забудешь!
Так вот и получилось, что несколько дней спустя в школьной тетрадке в клеточку оказалась записанной мамина сказка. Её бы надо назвать "Продолжение Золушки", но она написала просто:
Золушка
Сегодня даже маленькие дети знают со всеми подробностями от начала до конца старую историю о бедной девушке Золушке, о том, что она потеряла башмачок, убегая с придворного бала, когда до двенадцати оставалась ровно одна минута, и в конце концов стала принцессой!
Но для людей, которые жили в то время, это была самая свежая последняя новость, и тогдашние газеты писали обо всём этом крупными буквами:
Загадочное происшествие на балу!
Рекордный обморок мачехи: 22 часа 2 мин. 4,2 сек.
Сообщение нашего соб. корреспонд. с придворного пира, на котором он сам был, мёд‑пиво пил!
Потом вся история Золушки была подробно описана от начала до конца в газете и пошла расходиться по белу свету. Правда, в те времена газеты ходили гораздо медленнее, чем теперь, зато они были гораздо прочнее – ведь их писали и рисовали на телячьей коже!
Так и эта газета, долго ли, коротко ли, шла, но всё‑таки дошла до одного дальнего Королевства, где в те времена правила Молоденькая, Умненькая, Смелая Принцесса.
Она стала читать газету рано утром за чаем и так зачиталась, что чуть было на работу не опоздала, до того её увлекла и заинтересовала история Золушки.
– Вот уж кому повезло найти себе мужа по сердцу! Прямо завидно! – воскликнула она, доедая на ходу бутерброд, сунула корону под мышку и побежала на заседание.
Все придворные кавалеры тотчас же пронюхали, что их Молоденькой, Умненькой, Смелой Принцессе, оказывается, ужасно пришлась по вкусу история замужества Золушки. Все они мечтали, конечно, жениться на своей Принцессе вовсе не потому, что им нравилось, что она такая умненькая и смелая, это им даже не очень‑то и нравилось, а потому что, сделавшись её мужем, можно было всеми вокруг командовать, каждый день менять чистое бельё, есть вкусно приготовленные блюда, а по выходным распивать мёд‑пиво да ещё потом у всех допытываться: за что они его не уважают?