В английском языке есть выражение «larger than life» — «больше, чем жизнь». Так говорят, например, о китайском императоре Цинь Шихуане (259–210 гг. до н. э.), объединителе, по сути, создателе китайского государства. В часе езды от Сианя — его гробница, которую охраняют тысячи терракотовых воинов. Сам мавзолей закрыт для посещения, поскольку там воспроизведено в миниатюре все мироздание, причем реки и озера сделаны из ртути. Предполагал ли император, что хранилище его останков само станет смертельно опасным — или именно этого он и добивался: сделать свою смерть убийственной для других?
Усыпальницу начали возводить, как только Цинь Шихуан взошел на трон. Едва утвердив себя в земном царстве, он задумался о своем небесном пристанище. И всю жизнь был занят только тем, что покорял пространство. Строил Китай и строил мавзолей, прокладывал себе путь в бессмертие. Он создал жанр «жизни, которая больше, чем жизнь», который впоследствии освоил Мао Цзэдун.
Но можно быть изобретательным и «наоборот». Франц Кафка создал жанр, который можно назвать «меньше, чем жизнь». Возвел в литературно-творческий канон житие человека-насекомого. Даже лучшие свои произведения, при жизни не опубликованные, он завещал не сохранять для потомства. И то, что они все-таки уцелели благодаря не послушанию его душеприказчика, стало монументом этой не свершенной жизни, которая сама себя боится, укорачивает себя, устает от каждого шага, уклоняется от решительных действий — и при том наполнена изнутри невероятной силой самосознания.
Чей пример заразительнее, Цинь Шихуана или Франца Кафки? Абсолютный максимум и абсолютный минимум сходны в том, что они абсолютны.
|
|
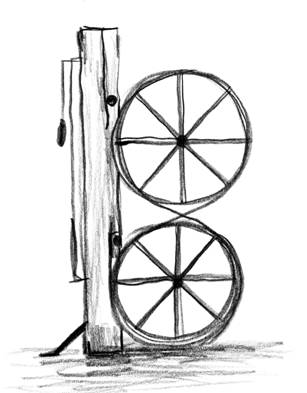
В начале будет слово
Где сейчас Александр Пушкин? Где Лев Толстой? Где Осип Мандельштам? Догадываемся ли мы, в каких пространствах они обитают? Конечно, никому не дано постичь посмертную участь души, кроме Творца. Но поскольку мы душой сроднены с ними и живем после них, должны же какие–то слабые отзвуки их нынешних странствий доноситься до нас сквозь загробную вату? Что сейчас делает Мандельштам, кому и какие пути расчищает его слово? Ведь не может остаться без посмертных последствий то движение души, которым написалось вот это — в его последнем стихотворении:
Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные, лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые,
Вызвал губы шепотком…
Я смутно чувствую ту духовную работу, которую и сейчас в невидимых мирах совершают строки Пушкина, Толстого, Мандельштама, создавая то, что где-то там, в их посмертии, предстает лицом, или деревом, или городом, или целой страной, планетой, вселенной. В том, что оставили по себе эти творцы, чувствуется предпосылка иного бытия, настолько логически и эстетически безупречная, что она не может не осуществиться в одном из возможных миров, в начале которых будет их Слово.
Вдвоем
Любовь — это столь долгое занятие, что одной жизни для неe мало. Любовь — это готовность провести вдвоем вечность.
Вдохновенная пошлость
Я преклоняюсь перед идеей эстетического и морального совершенства, перед завещанной древними греками «калокагатией», гармонией доброго и прекрасного. Однако у Фридриха Шлегеля есть выражение «гармонические пошляки», над которым стоит задуматься. Ну что можно возразить на требование быть одновременно и изящным, и добрым, и человечным, и возвышенным, и правдивым, и чутким? Ни-че-го! Остается только понуриться, осознавая свое несовершенство. Вот почему верхом пошлости мне представляется чеховская фраза: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Ну конечно, мы за все хорошее и против всего плохого. Сам Чехов не случайно отпасовал эту глубокую мысль Астрову (в «Дяде Ване»), который перед тем, как ее обронить, по привычке опрокидывает рюмку водки. Кстати, и Горькому хватило такта вложить «Человек — это звучит гордо» в уста пьяного босяка Сатина: «сегодня я пьян, мне все нравится … рисует пальцем в воздухе фигуру человека». Удивительно не то, что пьяные персонажи произносят высокопарные пошлости, а то, что их с воодушевлением повторяла вся страна, — как будто сама опьянела от размаха своего революционного (воинствующего!) гуманизма. Слова вознеслись со «дна» (ночлежки и бутылки) до вершин мысли прогрессивного человечества.
|
|
Должно ли нас удивлять соседство вдохновения и пошлости? Бывает ли пошлость вдохновенной? Примеры можно найти в поэзии революционной эпохи, даже у Маяковского и Есенина, не говоря уж о глашатаях и краснобаях, типа Троцкого и Луначарского («железный обруч насилия и произвола», «в сердцах трудовых народов живет непреодолимое стремление»). Самые возвышенные слова, самая надрывная патетика часто несут в себе пошлость (если только силой иронии не вырвать их из высокого контекста). Пошлость — это претензия на «сверх», это преувеличение всего хорошего: красоты, ума, добра, величия. Это эстетство, морализм, сентиментальность, политиканство-мессианство; это «лебедь горделиво выгибает свою изящную шею» или «клянемся свергнуть гнет кровавого деспотизма». Но и вдохновение — тоже «сверх», состояние чрезвычайности, когда слова и мысли выходят из-под контроля разума, когда опьяняешься высоким и прекрасным: тут один шаг от «in vino veritas» до «очей синих и бездонных». Вот почему вдохновение не меньше чревато пошлостью, чем смиренный здравый смысл. Бывает пошлость плоская — и величественная; пресная — и пьяная. Демьян Бедный впадал в пошлость — ну а Есенин разве нет?
|
|
Недаром в классической эстетике было принято противопоставлять вкус и гений, чувство меры и волю к безмерности. Безвкусное вдохновение чаще всего и отдает пошлостью.
Вежливость
Речевой этикет состоит в том, чтобы избегать повелительного наклонения и заменять его сослагательным. Вместо «принесите воды!» — «не могли бы вы принести воды?» или «не были бы вы так любезны, чтобы принести воды?» Это может показаться пустой формальностью, но форма в данном случае глубоко содержательна. Вежливые люди не обременяют других своими нуждами, а деликатно предоставляют друг другу возможность их исполнять. Мне хотелось бы, чтобы вы сделали то-то и то-то, но я не понуждаю вас к этому, я предполагаю за вами возможность сделать это по собственной воле. Наша потребность высказывается другому человеку как одна из возможностей, которую он волен осуществить или не осуществить. Потребности одних людей претворяются в возможности других — такова алхимия вежливости. Этикет — это раскрепощающий приоритет возможности над необходимостью в отношениях между людьми.
Можно было бы возразить, что высшие этические соображения не должны иметь ничего общего с правилами вежливости, и если неловко в форме императива требовать стакан воды, то ничуть не зазорно требовать от людей проливать моря крови во имя всеобщих принципов свободы, равенства, справедливости и т. д. Сомнительно, однако, чтобы высшая этика утверждалась опровержением элементарного этикета, а не его углублением. Если первичная нравственная интуиция состоит в том, чтобы облечь свою необходимость в форму возможности для другого, то смысл этики тем самым определяется как дальнейшее расширение сферы возможного. Вежливость еще только формальна, поскольку она прикрывает свой собственный интерес приглашающим жестом — «не могли бы Вы?» Переход к высшей этике не уничтожает правил вежливости, а устраняет их формальность. Возможность, которую мы предоставляем другим, перестает быть средством осуществления наших потребностей и становится целью — раскрытием возможностей другого: духовных, творческих, профессиональных, эмоциональных. И если я способствую их раскрытию, значит, формальная вежливость между нами переросла в подлинно содержательные этические отношения.
Великанчик и лилипутище
Кто больше: великанчик или лилипутище? Это похоже на вопрос о том, кто кого «сборет»: лексика грамматику или наоборот. Понятно, что великан больше лилипута, а человечище больше человечка. Но в какой степени больше? Что сильнее: корень или суффикс, если их значения противоположны?
Вечность времени
Сверхзадача не в том, чтобы жить вечно, а в том, чтобы жить вечно, чтобы само смертное обессмертилось. Чтобы время стало вечным, не теряя своей временности. Вот так, как я сейчас живу, и тоскую, и ленюсь, и презираю себя, и радуюсь пустякам, и отчаиваюсь от собственной бездарности, и боюсь умереть, — вот так, в этом смертном состоянии слабого существа, которое копошится в песочке времени, пытаясь слепить из него что-то нерушимое, я и хотел бы жить вечно. Чтобы вечное давалось не как заведомая гарантия, а рождалось из непрерывности и нескончаемости моей временности, всех этих больших надежд и малых дел. Не иметь вечного заранее, а непрерывно его получать, как нескудеющую милость, как продление еще на один вершок, на год, на столетие… Я хочу вечности не как права, а как милости, потому что только милость, незаслуженная и невынужденная, сохранит для меня все обаяние и доподлинность времени, в которое я заброшен.
Вещие вещи
Вещь — это урок смирения, согласия с миром. «Вещи кротки. Сами по себе они никогда нe делают зла. Они сестры духов… Душа моя была непреклонна перед людьми, и, однако, я часто плакал, созерцая вещи…», — писал французский поэт Франсис Жамм («Вещи», 1889).
Ощутите этот крошечный paй, в котором каждая вещь послушествует своему владельцу. Она не отклонит ничьей просьбы, но при этом останется верна своему назначению: чашка никому не откажет в питье, но не позволит использовать себя в качестве ножа или полотенца. У вещей человек может учиться искусству сочетать служение тем, кто нуждается в нем, с верностью своему назначению.
Если от вещей — сильнейший соблазн стяжания, то от них же — и урок бескорыстия. Вещи, как святые, оделяют нас всем, что у них есть, и ничего не оставляют себе, буквально выполняя завет «раздай имение свое». Отдаваясь нам во владение, учат нас не владеть.
Растение тише и послушнее животного, а вещь тише и послушнее растения. Чувство покоя и замирания, которое мы переживаем в лесу или в поле, должно быть еще глубже среди собрания вещей.
Одни люди прилепляются к ним всем сердцем за их вещественность, другие отвергают и обличают ее, как вещизм. Но, может быть, вещность — это покорность бытию, которое вещи умеют претерпевать глубже, чем люди? Было бы достойнее для человека не обогащаться вещами (гедонизм), но и не отказываться от них (аскетизм), а быть с вещами, разделять их безмолвие, бесстрастие, бескорыстие. Их можно любить не за богатство, которое они приносят, а за бедность, в которой они пребывают.
Меря себя мерой вещей, не имеющих ничего, кроме бытия, человек достигает смирения. «Человек — мера всех вещей…» — сказал Протагор. Но верно и то, что вещь — мера всего человеческого…
Бог, говорит Р.- М. Рильке, «Вещь вещей», «Безграничное присутствие». Монах, по словам Рильке, «слишком ничтожен и все-таки недостаточно мал», чтобы уподобиться вещи перед Богом. Мир вещей — погруженный в молчание и терпение монастырь, куда люди приходят странниками, обретая мудрость послушания. У каждой вещи — особое служение, и жизнь каждой вещи — непpестанная служба. Мы учимся у тех, кто служит нам. Тогда-то вещь и являет свое затаенное свойство — безгласного Слова, неутомимо наставляющего нас.
Вкус Вселенной
Джордж Стейнер, американский критик и мыслитель, так противопоставил искусство науке: «Только искусство способно хоть в какой-то мере сделать доступной и пригодной для коммуникации начисто лишенную человечности чуждость материи».
Он не совсем прав: наука тоже способна очеловечивать мир материи, преодолевать его чуждость. Согласно новейшим астрономическим данным, Sagittarius B2, огромное газопылевое облако в центре нашей галактики, содержит этилформиат — химическое соединение, определяющее вкус малины, а также, по странному совпадению, запах рома. Астрономы искали в нашей галактике аминокислоты, «семена жизни», но попытка пока не увенчалась успехом. Однако побочным результатом неудавшегося эксперимента оказалось открытие, благодаря которому чуждая вселенная очеловечилась, приобрела вкус и запах, причем романтический и пьянящий. Теперь, чтобы совершить путешествие в центр галактики и хотя бы чуть-чуть прикоснуться к неведомому, достаточно откупорить бутылку рома и бросить в бокал несколько ягод малины.
Возрасты
Взросление — это не столько переход из одного возраста в другой, сколько накопление в себе всех предыдущих возрастов. Человеку уже за 60 — но в нем остаются и его 14 лет, и 25, и 38: не только как память о прошлом, но и как ширящийся круг его насущных желаний и интересов. Так ведь и в дереве сохраняются все старые — и нарастают новые годовые кольца. Если же прежние возрасты утрачены и остается только последний, — это как дерево с полым стволом, прогнившее изнутри.
Есть такие многовозрастные личности, что даже не совсем ясно, кто перед тобой. Пятидесятилетние волосы, тронутые сединой; сияющие восемнадцатилетние глаза; десятилетняя улыбка с ямочками на щеках; а слова бурлят в наивно-мудром диапазоне от десяти до семидесяти… Или так: пожатию руки — двадцать лет, выражению глаз — шестьдесят, улыбке — пятнадцать, словам — тридцать. Дело не во внешности, а в той гулкости, резонансности, которая ощущается в душевном устройстве. Про такого человека нельзя сказать, что он вневозрастный, как хвойное дерево внесезонно: «зимой и летом — одним цветом». Это скорее всевозрастный человек, в котором все возрасты звучат по-разному, каждый в своей тональности, как клавиши хорошо настроенного инструмента. Иногда эти возрасты перебивают друг друга, захлебываются от полноты самовыражения, и на детскую улыбку вдруг наползает усталость в глазах.
В общественных или служебных отношениях человек может быть равным своему текущему возрасту — но любовь обнаруживает в нем то детское, отроческое, иновозрастное, что среда или он сам в себе вытесняют. По сути, любовь есть особый дар раскрывать в человеке многообразие его возрастов. В пожилом вдруг открывается ребенок, и тогда испытываешь к нему двойную нежность; а в молодом проглядывает его предстоящая старость, по отношению к которой усиливается чувство пожизненной предназначенности. У любящих — целая палитра межвозрастных отношений. Так можно переосмыслить пушкинское «любви все возрасты покорны»: не люди разных возрастов, но разные возрасты в одном человеке.
Воля к власти
Архив немецких классиков в Веймаре. Записная книжка Ф. Ницше за 1886 г.
На предпоследней странице:
соль
сахар
яйца
На последней странице:
Will zur Macht
(Воля к власти)
Выбор
Человечество перед выбором: равенство небытия или неравенство бытия?
Выверт
Для русской культуры характерен некий обманный жест, когда обстоятельства смеются над человеком, когда все задуманное им обращается против него: эффект наступания на грабли. Русская история богата такими вывертами, самый яркий из которых — Великая Октябрьская революция, а один из последних — августовский путч 1991 г. Выверт — это не просто переворот, когда противоположности меняются местами. Если бы такой переворот и в самом деле произошел в 1917 г., не было бы ни т. н. диктатуры пролетариата, ни коллективизации, ни партократии, ни ленинско-сталинского режима. Произошел вовсе не переворот, а выверт, который содержал в себе издевку и насмешку над самим смыслом переворота. Низы, ставшие якобы верхами, оказались еще более нищими и бесправными, а верхи, ставшие низами, вообще были выдавлены за пределы страны, в инобытие или небытие.
Когда, например, Лопахин становится хозяином «вишневого сада», в котором его предки были крепостными, — это простой, «нормальный» переворот. Но легко представить, что стало с Лопахиными после 1917 г., как их грабили и убивали. Если же им посчастливилось уцелеть под личиной справных мужиков, потомков крепостных, то что стало с ними после 1929 года, уже под ярлыком «кулацкого элемента», когда продолжала раскручиваться машина «переворота». Как замечает по поводу чеховских героев писатель Владимир Шаров, «им в те годы казалось, что это не шар, который катиться будет, катиться и катиться, — а просто кубик: перевернется он с одной грани на другую и станет, будто вкопанный». Русская модель — именно шар, который вращается. Отсюда и понятие выкрутаса, от которого неотделима так называемая русская крутизна и раскручивание («крутой парень», «раскрутить дело»). Да, крутая страна, но то, что крутится в одну сторону, легко раскручивается и в другую.

Герой и гений
Отчего эти два понятия, знаменующие предел человеческих способностей и достижений, неодинаково высоко отзываются в нас? С кем вам больше хотелось бы встретиться: с героем или с гением? Какая встреча сулит больше открытий и удивлений? Опроса не проводил, но уверен: большинство предпочли бы гения. В слове «герой» звучит нечто сухое и официозное, недаром его любит и поощряет любая власть. А гениев боится, недолюбливает — и изо всех сил старается превратить в героев (Пушкин). Или, напротив, объявляет своих героев — гениями (Горький).
Казалось бы, в отличие от гения, который рождается таковым от Бога, герой сам себя создает, в нем больше личных усилий, личного достоинства, тогда как гений может быть себя недостоин: пропивать свой талант, зарывать в землю, легкомысленно им пренебрегать. Но именно эта непредсказуемость гения, который сам собой не вполне управляет, и делает его источником чудес и открытий (иногда — откровений), неподвластным любой власти.
Герой, напротив, скроен по человеческой мерке, и потому власть может на него опереться. Точнее, сама власть или общественный порядок лепят героев, превращая одного в образец для всех. Герой, как правило, тот, кто лучше всех делает то, что призваны совершать все; он — исключение лишь постольку, поскольку правильнее всех правил. Он много трудится, непоколебимо предан, идет вперед и ведет за собой. Главная черта героя — мужество, то есть способность пожертвовать собой для выполнения общественной или общечеловеческой цели. Герой всем понятен и для всех поучителен. А гений — это прореха на человечестве, сквозь которую виден туман и звездное небо.

Далекие близкие
С самыми близкими людьми, с которыми повседневно общаешься, труднее всего установить духовные отношения, предполагающие взаимную свободу. С родной матерью, которая варит тебе обед и недовольна новой прической, — ну как с ней вдруг заговорить о посмертном существовании души? Неловко, хотя и непонятно почему. Вот и получается, что с друзьями ты говоришь о высоком и глубоком, а ближайшее, родственное твое окружение — сплошная приземленность и быт.
Чувствуешь неправедность такого разделения, хочешь преодолеть его, — но находит оцепенение. А вдруг твое слово не будет услышано? Булькает бульон, шипит сковорода — и вдруг поэзия, метафизика? Вот так и тянется эта домашняя рутина, спячка души. А как было бы радостно все-таки найти в себе силу на прорыв: выйти на кухню и поделиться сокровенным! Смешно писать об этом как о подвиге, но это подвиг и есть: посягнуть на порядок вещей в его самой закоснелой, повседневной форме. С самыми близкими разговор о главном требует наибольшего дерзновения.
Дательный падеж
Я дан, послан себе. Сначала кажется, что это я дышу, живу, думаю, пишу. И лишь со временем начинаешь понимать, что это мне дышится, живется, думается, пишется. Дательный падеж своего «я» нужно отличать от именительного.
Но как различить послание и получателя, если «мне» — все тот же «я»? В том и глубина тайнописи, что послание и получатель одно лицо, и лишь постепенно, с возрастом, он начинает читать и понимать себя, как нечто предназначенное и порученное себе. С самого рождения я был таким-то и таким-то, и лишь приближаясь к концу, начинаешь понимать смысл этих свойств и их предназначение, как выполненное, так и невыполненное.
Быть может, в этом состоит смысл двойного акта сотворения человека, как он представлен в Библии. Сначала, в первой главе Книги Бытия, создается человек-сообщение. Бог создал человека по образу своему и благословил их, мужчину и женщину, и сказал им: плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю… (1:27–28). А потом, во второй главе, Бог создает получателя этого сообщения — человека во плоти. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (2:7). Теперь человек может получить то послание, те «образ и подобие», которые в нем заложены.
Чтение требует времени и жизненного опыта. По мере созревания души в ней все яснее проступают буквы первоначального сообщения.
Две стороны свободы
Я не имею права затыкать вам рот, но имею право
затыкать себе уши.
Двойное нeбытие
В основании физической Вселенной, по современным представлениям, лежит вакуум. Но он неустойчив, из него постоянно рождаются частицы, что и делает возможным возникновение субстанции «из ничего». Неустойчивый вакуум способен даже порождать целые вселенные — по одной из известных концепций, так произошел «Большой Взрыв». Если вакуум есть отсутствие частиц, то неустойчивость вакуума есть временное отсутствие самого отсутствия. Значит, в основе и вакуума, и его неустойчивости лежит общее «не», которое и объясняет возникновение чего-то из ничего. Поскольку в вакууме нет ничего, кроме него самого, то он «вакуумит» сам себя. Пустота самоопустошается, ничто себя ничтожит, образуя нечто от себя отличное. Из этого самоотрицания возникают все конкретные предметы и отношения, бытие которых можно определить как двойное небытие, не-небытие.
Если мы пристальнее вглядимся в мир, нас окружающий, и в самих себя, то обнаружим, что все так называемые положительные признаки являются скорее дважды отрицательными, то есть выступают в форме «не-не», неустойчивости своего отсутствия. Светлое в нашем мире, поскольку оно то светлеет, то темнеет, — это неустойчивость не-светлого, то есть темного. Веселое, как свойство моего настроения, — это не веселость как таковая, а неустойчивость не-веселого; и то же можно сказать о грустном. Мы постоянно ощущаем в себе вспыхивание и угасание этих настроений, как виртуальных частиц, возникающих из душевного вакуума.
Эта бытийная расслабленность, неопределенность, «ни то ни се», «шаткость-валкость» мирoздания обнаруживает небытие в его основе. Сущее возникает как отношение ничто к самому себе. Любой плюс — это лишь двойное вычитание, наложение минуса на минус. Поскольку в вакууме нет ничего, кроме ничего, то «не» обращается на себя, а тем самым и производит нечто.
Но где же источник этой возвратности, этой складки, залегающей в глубинах небытия и позволяющей ему себя удваивать, то есть отрицать? Вот главная метафизическая загадка.
Дедушка
Такого родственного чувства, как к дедушке, я в своем детстве не испытывал даже к родителям. У них были свои дела и заботы, а у дедушки — только я. Разница в возрасте нас не разделяла, а сплачивала — минуя родителей; за их спиной мы как будто обменивались всепонимающими взглядами. И вместе коротали то долгое, сладко-тягучее время детства и старости, внутри которого им, с их спешкой и наставлениями, не было места.
Куда нам было спешить, когда в летний ласковый день мы гуляли, взявшись за руки, по солнышку, в который раз осматривая все тот же повалившийся забор и ржавую бочку? Наша жизнь, не спеша ни к какой цели, наполнялась смыслом сама по себе — высшее благо для тех, кто только начинает или уже заканчивает жить. Мы помогали друг другу почувствовать всю щемящую прелесть ничем не обремененного существования.
Мне думалось, что когда дедушка умрет, то почти вся моя жизнь будет в память о нем, я назову его именем — Самуил — своего сына. Не так это вышло, и даже день его смерти, 13 марта, порой проходит в забвении. Но ощущение горячего дедушкиного присутствия, невидимо охраняющего меня, остается во мне прочнее, чем родительское. Ведь отца и мать мы знаем и тогда, когда вырастаем, в их образах уже стерлась память детства, вытесненная более поздними и сознательными впечатлениями. Дедушка же остается всемогущим и всеблагим богом младенчества, когда еще магически воспринимаешь мир, не развенчивая знанием его таинственную одухотворенность.
Не случайно наивно верующим Саваоф представляется как седобородый старец: они, как внуки, нуждаются в опеке и покровительстве непостижимо превосходящего опыта. И как важно сохранить то чувство благоговения, которое внук испытывает к деду вследствие абсолютной несоизмеримости их опыта! Ведь дед был посвящен в начальную тайну вещей задолго до моего рождения, он создал по своему образу мою маму! Хотя при этом умаляется право «вечного внука» на взрослую самостоятельность, но неизмеримо возрастает его право на самого Бога, его внимание, любовь, попечение.
Когда дедушка был жив, я по малолетству преувеличивал его могущество и всеведение; когда же я стал взрослеть, он умер, так и оставшись навсегда за той чертой, где скрывается священное.
Дерево, владеющее собой
У каждого человека есть священное право быть собственником. В маленьком американском городке Афины, который, быть может, не случайно носит то же имя, что и греческая родина демократии, есть дерево, которое в буквальном смысле принадлежит самому себе. Хозяин, полковник Уильям Джексон, так возлюбил это дерево, что в 1820 г., умирая, передал ему права юридического субъекта.
Вот сухая справка из путеводителя по штату Джорджия:
«Самый невероятный владелец собственности в Афинах — белый дуб… В знак восхищения его тенистой красотой, владелец передал дубу юридическое право собственности на самого себя и на всю землю в окружности 8 футов. Дерево было повержено грозой в 1942 г., но другое выросло из его желудя на том же самом месте. Законность прав этого «Дерева, Которое Владеет Собой», никогда не подвергалась сомнению».
Я посетил этот белый дуб, широко раскинувший свои ветви. Он действительно красив и тенист, но более всего поражает в нем не величавый облик, не природа и порода, а царственная принадлежность самому себе. Он не есть собственность ни государства, ни корпорации, ни частного лица. В каком-то смысле этому дереву повезло больше, чем роскошным коронам, алмазам и изумрудам, которые хранятся в царских палатах или национальных музеях. Те сокровища не владеют собой и имеют цену. А этот дуб — ничей, его нельзя присвоить или продать. Он не только самовладелец, но и землевладелец — ему принадлежит земля в окружности примерно 2,5 метров.
Вдруг понимаешь, что есть еще один способ возвеличить бытие, придать ему самодостаточность: раскрепостить вещи, животные, растения, — то, о чем писал Велимир Хлебников:
Я вижу конские свободы
И равноправие коров.
«Ладомир» (1920, 1921)
Возможно, Хлебников понимал освобождение утопически, революционно, по-коммунистически. Ровно за сто лет до Хлебникова полковник Джексон продемонстрировал иной вариант освобождения вещей. Этот юридический акт, совершенный в рамках и на основе капиталистической системы, исполнен поэтической дерзости, которая не уступает хлебниковской.