«Жизнь коротка, искусство вечно» — это изречение Гиппократа обычно рассматривается как антитеза жизни и искусства. Но нет ли между двумя частями этого древнейшего афоризма и причинно-следственной связи? Именно потому, что жизнь коротка, она столь торопится создать нечто, что ее переживет, — искусство в широком смысле слова. Если бы жизнь продолжалась бесконечно, она не нуждалась бы в искусстве. Но раз я смертен, то пусть нечто, сделанное мною, переживет меня. Жизнь кратковременна — и потому искусство долговечно.
Почему культура приносит нам удовлетворение? Писать, рисовать, петь, играть, перевоплощаться — почему этого просит душа? Культура есть черновой набросок бессмертия, его условнo-символическая форма, подражание бессмертию, как жизнь христианина мыслится подражанием Христу. Иначе как объяснить, что мы часами бьемся над какой-то строкой или мазком? Да пропади оно пропадом, если все равно умрем!
Вряд ли можно, следуя Фрейду, объяснять стремление к культуре скрытым утолением полового инстинкта в виде сублимации, то есть вынужденной или добровольной его отсрочки/возгонки, от которой происходят все сновидения, искусства, религии… Собственно, в рамках этой теории культура и не приносит удовлетворения, а напротив, причиняет неудобство и страдание, поскольку подавляет половой инстинкт или в лучшем случае дает его иллюзорную разрядку (З. Фрейд. «Неудовлетворенность культурой »). Получается, что культура — это отходы либидо, свалка неутоленных влечений. Но мы-то знаем, что культура приносит истинное удовлетворение — не половому инстинкту, а инстинкту бессмертия, разновидностью которого половой инстинкт является (увековечить себя в своем подобии, в потомстве). И если человечество готово подавлять половой инстинкт ради культуры, то, очевидно, лишь потому, что оно ищет более высокую и надежную форму бессмертия, чем воспроизведение себя биологическим путем. То, что Мандельштам в своей воронежской ссылке, уже на краю гибели, назвал «тоской по мировой культуре», было тоской по бессмертию, выживанию в строчках или полотнах, коль скоро природой не дано выжить их создателю.
|
|
Культура есть величайший аргумент в пользу бессмертия, более убедительный, чем все пять метафизических доказательств бытия Бога. Города, музеи, поэмы, романы, трактаты — это образы вечной жизни, хотя в них спасения (и то временного) удостоен еще не сам человек, а только его творения.

Лиха беда начало
Любое дело, по мере доведения до конца, начинает замедляться. Маленький наглядный пример: когда чистишь фрукты или овощи, половина времени уходит на то, чтобы снять почти всю кожуру, а другая половина — на устранение оставшихся погрешностей. Подтверждаю теорию экспериментом: мне понадобилось 45 секунд, чтобы очистить большое яблоко на 90–95 процентов, и еще 45 секунд, чтобы снять оставшиеся тонкие полоски кожицы, темные точки и кожуру вокруг основания и верха.
То же самое в работе над книгой: половина времени уходит на формирование ее костяка и основной массы текста и столько же — на мелкие детали, сноски и единичные исправления, составляющие 5–10 процентов ее объема. Вот и вопрос: не стоит ли эту половину времени потратить на написание другой книги? Что лучше: две картошки с оставшимися глазками или одна идеально очищенная картошка? Я думаю, что Бог, сильно ограничив время нашей жизни, призывает нас поторопиться, признав невозможность совершенства. Лучше две вещи, удавшиеся на 95 процентов, чем одна — на 99 процентов. Ведь полное, стопроцентное совершенство все равно невозможно.
|
|
Есть люди, которые тратят всю жизнь на доведение до конца какой-то одной идеи, мгновенно их озарившей, например, художник Френхофер в рассказе Бальзака «Неведомый шедевр» или художник Александр Иванов, фактически писавший всю жизнь одну картину «Явление Христа народу». Преклоняясь перед одержимостью этих творцов, нельзя не ужаснуться их гордыне, той жажде богоравного совершенства, которое ведет к безумию и творческому поражению. Если совершенство невозможно, то не лучше ли полжизни потратить не на четыре процента улучшения, а на 95 процентов созидания?
Личные аксиомы
У каждого человека есть свои жизненные правила,
«аксиомы». Попробую определить свои.
На первое место я бы поставил «усилие без насилия». Это значит, что нужно постоянно совершать какие–то усилия, но при этом стараться, чтобы они не перешли в насилие над предметом. Если ключ не поворачивается в замке, не нужно силой его проворачивать, лучше поискать другой ключ. Если, например, я звоню по телефону и номер долго занят, разумнее оставить попытки и отложить звонок: вероятно, у того человека есть более важные дела, а если я и дозвонюсь, то результат разговора скорее всего меня разочарует. Умение плавно обходить препятствия — это свобода, вобравшая в себя необходимость.
|
|
Второе правило: ничему себя не противопоставлять и ни с чем не отождествляться. Действовать в зоне различия, где все тождества и противоположности слегка размыты, перечеркнуты косым почерком мимо–бытия. Как только я оказываюсь в тождестве с какой–то группой, позицией, я чувствую удушье и стараюсь приоткрыть окно в иное пространство, стать диссидентом и еретиком. И наоборот, как только я упираюсь во что–то жесткое, явно мне противоположное, я отступаю — не назад, а в сторону, чтобы оно прошло мимо, меня не задев и не надломив. Я встречаю того, кто «хочет меня уничтожить», не приветственным гимном, но и не вдохновенной отповедью, а скорее намеренно вялым, неохотным допущением, что мы оба не всегда правы.
Третья аксиома: не обременять других лишней информацией о себе и своих близких. Люди меняются, я меняюсь, зачем им уносить слепок моего «я», которого уже нет, и подвергать их искушениям предательства? Так учила меня моя мама, прошедшая через эпоху всеобщей подозрительности. Но дело не только в страхе, что другие могут обратить против меня знание обо мне. Это щадящая мудрость: не перегружай другого лишним знанием, ибо во многом знании многая печаль; а главное, не будь сам его предметом. Если мы слишком доверяем другому, мы подвергаем его искушению. Люби ближнего больше, чем свой образ в нем.
Таковы три мои маленькие аксиомы, которые я не советую никому принимать на веру, ибо они рождены моим опытом и в нем же должны остаться.
Любовь, а не добро
Злу противостоит не добро, а любовь. Нигде не сказано, что Бог — добр. Но «Бог есть любовь» (1 Иоан. 4:16). На первый взгляд, добро выступает как антипод зла, но по сути они взаимосвязаны, о чем и повествует библейская притча о грехопадении. «Познание добра и зла» с запретного райского древа обнаруживает их неразрывность: зло представляется добром, a добро оборачивается злом. Ведь добро можно осуществлять насильственно, навязывая его человеку, превращая в злобро. Добро бывает холодным, бесчувственным, равнодушным, надменным. Великий Инквизитор желает добра своим подопечным, облегчая им бремя свободы. Даже самые страшные преступления против человечества, творившиеся тоталитарными режимами, проистекали из стремления к добру, как ни своеобразно оно понималось Лениным и Сталиным или Гитлером и Мао Цзедуном. Но все это «доброжелательство» не любит людей, презирает их, слабых, глупых, несчастных. Сколько философских и политических машин добра возведено в словах и в металле — и человеку неоткуда ждать пощады! Такие системы добродеяний, возвышая одних: богатых, бедных, рабочих, аристократов, — унижают других: бедных, богатых, аристократов, рабочих…
Как же выживает человек в этой давильне, где счет жертв ведется на миллионы? Благодаря неприметной, от сердца к сердцу вспыхивающей искорке любви. Всегда только так — от одного к другому, минуя общества, союзы, партии, классы, религии. Лучше расслаблять сердца любовью, чем ожесточать их правотой. Любовь всегда права, а правота неправа, если безжалостна.
Единственный критерий, позволяющий отличить подлинное добро от поддельного, — это любовь. Любящее добро, в отличие от ненавидящего, творится по частностям, вне системы, оно вспыхивает в слабом человеческом сердце — и гаснет, когда властью идеи или принципа его пытаются впихнуть в людские умы и судьбы. Даже подвиги добра и веры бессильны против зла, если не движимы любовью. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор.13:2-3).
Разве может какая-то система или принцип добротворения учесть это непредвиденное, неподвластное разуму — объятия, вдруг открытые врагу; слово пощады, сказанное поверженному; да и просто внезапное смущение, омрачающее миг уверенности и торжества. Все властные системы добра приходят и уходят, а это, ненамеренное, непредумышленное — остается. От слабости, непоправимой сердечной слабости и творятся такие дела, — не может сердце сравниться в твердости с рассудком, повелевающим: покоряй, ликуй, делай всех счастливыми! Сила любви — в слабости сердца.
Любовь, Бог и Вселенная
Представим, что на свете есть одно–единственное существо. Была бы тогда возможна любовь? Философ Бенедикт Спиноза утверждал, что поскольку всё есть Бог и нет ничего, кроме Бога, то Бог любит самого себя бесконечной любовью.
Теорема 15. «Все, что только существует, существует в Боге…»
Теорема 36. «… Познавательная любовь души к Богу составляет часть бесконечной любви, которой Бог любит Самого Себя» («Этика»).
Конечно, если признать, что Бог есть всё, то что еще Ему остается любить, как не Себя? Но разве любовь, по сути своей, не есть отношение к другому? Разум может допустить всеобъемлющее бытие Бога, а то, что Бог любит только Самого Себя, сердце допустить не может. Потому что оно имеет опыт любви и знает, что любовь предполагает инаковость любимого.
Тогда становится понятнее, зачем Бог создал мир. Об этом ничего не говорится в начале Книги Бытия, там сразу представлено действие: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Но ответ на загадку Ветхого Завета содержится в Новом Завете, в словах апостола Иоанна о том, что Бог есть любовь и что любящему нужен другой — любимый.
«Возлюбленные! будем любить друг друга … Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» (1 Ин. 4:7–9).
Не самих себя призывает любить апостол, а «друг друга». Очевидно, что и Бог любит не Самого Себя, если посылает Сына на смерть ради человечества. Этим объясняется не только причина спасения человека, но и цель сотворения мира: любовь ищет себе другого.
Космология постепенно приближается к описанию Вселенной в первые секунды после Большого Взрыва, но в принципе никогда не сможет заглянуть в то, что ему предшествовало, поскольку само это «пред» лишено смысла вне категории времени, а оно тоже возникло лишь с Большим Взрывом. Но до чего умом не дойдет физика, до того сердцем может дойти всякий имеющий опыт любви. Творец выходит из самобытия, потому что Он есть Любовь, а значит, ему нужно обрести мир вне себя.
Любовь не просто движет Солнце и светила, она их создает. Только в нашей галактике — 100 миллиардов звезд, а всего в известной части Вселенной — 50 тысяч миллиардов галактик. Таковы масштабы космической любви, сотворившей Вселенную. Частица этой Любви проникает и в человеческое сердце и тоже производит в нем Большой Взрыв, который мы называем просто «любовью».
Любовь и счастье
Любовь — это когда и во сне видишь того, кто спит рядом. Счастье — это когда просыпаешься и видишь рядом того, кого видел во сне.

Магия вещей
Я люблю вещи, которые содержат в себе маленькую тайну, зеркальце, поворот ключа — возможность развеществления. К числу таких материальных явлений, выражающих призрачность самой материи, относятся: пена, раковина, вино, маска, маятник и другие. Эти вещи кажутся магическими, ибо они находятся на грани бытия и небытия, они есть и в то же время их нет. Они являют двойственность самой жизни, которая включает в себя смерть.
В юности я придумал науку фантоматику, которая классифицирует подобные вещи и исследует через них слои бытия и небытия, попеременно проступающие в них. Не притязая на строгую классификацию, я выделял следующие основные типы фантомалий (так можно назвать эти странные предметы):
1) Сaмоисчезающие: пузырь, искра, снежинка, мыло, клубок. Пузырь лопается, искра гаснет, снежинка тает, мыло смыливается, клубок разматывается.
2) Обратимые: лестница, маятник, в которых все движения повторяются в обратном порядке.
3) Складные, раздвижные, прячущие и раскрывающие себя: веер, зонт, ширма.
4) Растущие, метаморфозные, изменяющие форму: зерно, семя, куколка.
5) Сквозные, ячеистые, дырчатые, функционально использующие пустоту: сеть, решето, сосуды, соты.
6) Возникающие на грани разных стихий, в их кратковременных сочетаниях: пена, пузырь, искра.
7) Сокровенные, замкнутые, то есть не показывающие себя до конца: раковина, яйцо, орех. Сохраняя скорлупу, нельзя извлечь ядро; достав ядро, нельзя сохранить скорлупу. Целость выдает свою тайну лишь ценой разрушения.
8) Мимикрирующие, выдающие себя за другое: зеркало, маска, парик.
9) Пропускающие и отражающие — и при этом преломляющие свет: призмы, магические кристаллы и шары, кривые зеркала, в которых образ реальности отличается от нее самой.
Вот среди каких вещей-невещей я чувствую себя своим.
Матчества
Михаил Еленович Ломоносов, Александр Надеждович Пушкин, Михаил Марьевич Лермонтов, Николай Марьевич Гоголь, Иван Варварович Тургенев, Лев Марьевич Толстой, Федор Марьевич Достоевский, Антон Евгеньевич Чехов, Петр Александрович Чайковский, Владимир Поликсенович Соловьев, Василий Анастасьевич Розанов, Павел Ольгович Флоренский, Николай Алинович Бердяев, Борис Розалиевич Пастернак, Осип Флорович Мандельштам, Марина Марьевна Цветаева, Владимир Александрович Маяковский, Сергей Татьянович Есенин, Михаил Варварович Булгаков, Александр Таисиевич Солженицын…
Будем помнить и чтить их и такими, детьми своих ма-терей! Мы растем с именем матери на слуху, этим именем лепится наше чувство личности. И нельзя по-настоящему понимать и чувствовать человека, если не знаешь имени его матери. Знать о нем, что он Иван Батькович, — еще недостаточно. Это социальное знание, а персональное, интимное, дружеское, любовное — оно несет в себе запрос на имя матери.
Медиа-терапия
Медиа сообщают нам о тяжких и катастрофических фактах в жизни человечества не для усиления нашей депрессии, а как раз для того, чтобы утешить, социально взбодрить. Вот: бушуют стихии — ураганы, наводнения, снегопады. Скандалы, сенсации, аварии. Столкнулись поезда. Гибнут люди. Под завалами отыскивают трупы и чудом выживших. А ты сидишь в уютном кресле, потягиваешь пиво или жуешь конфету и на все это смотришь отстраненно, с искренним и при этом вполне комфортным сочувствием.
Пусть тебе скучно и в твоей жизни не происходит никаких событий, ты никому не нужен и не интересен — а вот посмотри на этих нужных и востребованных. Банкира отдали под суд. Актера арестовали за наркотики. Спортсмена дисквалифицировали. Миллионер умер от рака.
Для контраста — несколько положительных или нейтральных новостей. Но отрицательные более событийны, ибо нарушают установленный порядок вещей. По Ю. Лотману: любой сюжет — революционный момент в устойчивой картине мира. Граница должна быть пересечена, чтобы возникло Событие. И так вся система подачи новостей, в которой преобладают новости отрицательные, поднимает настроение миллионам: без этой медиа-терапии они выли бы от скуки и сознания бесцельности и убожества своей жизни.
Может быть, СМИ заведомо на это и рассчитаны? Как во многих странах вода, поступающая по водопроводу, витаминизируется, снабжается полезными химическими добавками, так и вся информационная система содержит в себе примесь такого успокоительного менталина, чтобы человечество глотало новости, и не бунтовало, и засыпало спокойно…
Меланхолия
Меланхолия свойственна не только меланхоликам, но и людям иных темпераментов. Весенний дворик, цветущие кусты. Меланхолия сангвиника: вот-вот они завянут, и целый год придется ждать новой весны. Меланхолия холерика: через пятьдесят лет здесь будет все таким же, но уже без меня. Меланхолия флегматика: через тысячу лет ничего этого уже не будет, как и меня. Меланхолия самого меланхолика: ну вот, опять половое томление растений, жаждущих никому не нужного совокупления, ибо ничто не имеет смысла перед вечностью.
Мелочи и подробности
От жизни хочется больше подробностей и меньше мелочей. Подробность — это всегда подробность чего-то большего, а мелочь — только мелочь и есть. В близком человеке даже мелочи воспринимаются как подробности.
Мера тревожности
Бывает, что об опасности впервые узнаешь, когда она уже миновала. Например, обнаруживают и благополучно удаляют опухоль, о которой ты раньше не подозревал, а она в тебе росла и готовилась к перерождению. Одновременно испытываешь и ужас за себя прежнего, и радость за себя нынешнего. В сущности, мы должны были бы постоянно испытывать такое двойственное чувство: мы есть, а могли бы и не быть (не зачаться, не родиться, умереть в детстве, попасть вчера под автобус).
В США каждый год в автомобильных авариях погибает около 40 тысяч человек. Нельзя предсказать, кто попадет в число этих жертв, но поскольку из года в год повторяется примерно одна и та же цифра, очевидно, что здесь действует статистическая закономерность. Есть и множество других статистических вероятностей: выигрыш в лотерею, крах на рынке акций, внезапная любовь или болезнь, встреча, которая меняет жизнь… И всё это множество маловероятных событий делает твою жизнь непредсказуемой, даже если не происходит ничего особенного. Живешь, дышишь, думаешь, пишешь, разговариваешь, хотя могло быть иначе. Ведь малая величина каждой вероятности, умножаясь на число сфер, где они могли бы сбыться, превращается в большую величину — меру тревожности.
Такие скачки от действительного к возможному и обратно очень обостряют чувство жизни и делают его одновременно кризисным и праздничным. Выбивают почву из-под ног — и приучают к танцующей походке. Обошел одну рытвину, перескочил через другую, сколько их еще впереди! Жизнь в опасности, жизнь удалась.
Метод как безумие
«Хоть это и безумие, в нем есть свой метод» — говорит Полоний о Гамлете. Но и в каждом методе есть свое безумие. У каждого ума, властного и упорного («упертого»), есть свой проект, свой Метод и Абсолют, а значит, и своя возможность безумия. Один из способов прочтения великих текстов — угадывание тех зачатков безумия, которые могли бы развиться в собственную систему. Безумие методичнее здравомыслия, постоянно готового на логические послабления и увертки. Безумец знает наверняка и идет напролом. По мнению Дж. Свифта, «безумие породило все великие перевороты в государственном строе, философии и религии» («Сказка бочки»).
Один из самых острых критиков ХХ века, Корней Чуковский толковал в «свифтовской» манере писателей-современников: Мережковского, Горького, Андреева, Сологуба — именно как таких умствующих безумцев, носителей идей-фикс. Например, Мережковский помешан на парности вещей, на идее двух бездн, верхней и нижней. А Леонид Андреев «видит в мире только какой-нибудь клочок, одну лишь пылинку, пушинку, хотя эта пылинка и становится для него Араратом, заслоняя собою и небо, и землю, и весь горизонт…» Чтобы понять писателя, Чуковскому надо его обезумить, гипотетически свести с ума. Пантеон тогдашних властителей дум превращается в паноптикум интеллектуальных маньяков, фанатиков одного приема или идеи.
Я не сторонник такого «сумасведения» в отношении других, но считаю полезным применять его к самому себе, особенно если твоя профессия — мыслить системно, действовать методично. Спроси себя: как бы ты мог сойти с ума, последовательно применяя тот или иной метод? Как бы сошел с ума Гегель, отождествляя свой разум с абсолютным духом на высшей стадии его развития? Как бы сошел с ума Ницше, возомнив себя сверхчеловеком, Дионисом, Распятым…, впрочем, он и на самом деле сошел с ума. «Обезумливать себя» — это вразумлять от противного. Ум, который осознает опасность своего безумия, отчасти уже защищен от него. Иными словами, каждому интеллектуалу, производителю или распространителю идей, нужна самокритика разума — осознание угрозы сойти с ума на путях самого безупречного приложения собственного метода.
Мироздания
Мне мало этого мироздания. Но и ему, конечно, мало меня. Поэтому оно наполнило себя миллиардами людей и сознаний. А я в ответ наполню себя хотя бы сотней мирозданий. Это и значит: мыслить конструктивно.
Многовластие
Сводить понятие власти к политике — это все равно что сводить царство животных только к отряду хищных и игнорировать травоядных, земноводных, птиц, рыб, насекомых, т. е. 99 процентов живых существ на планете. Конечно, есть власть у президентов, полицейских и судей. Но есть власть и у врачей и учителей, у конструкторов ракет, у рыночных торговцев, у лириков и физиков, у супругов (друг над другом и над детьми) и даже у дворников, от которых зависит благополучие людей на вверенных им территориях. У языка есть огромная власть над говорящими и пишущими; у эроса — огромная власть над любящими и жаждущими любви. Своя власть есть у медицины и музыки, у религии и педагогики…
Поэтому, когда говорят о необходимом разделении властей в демократическом обществе, не следует сводить это к вопросу разделения только политических властей: исполнительной, законодательной и судебной. Демократическое общество поликратично, то есть многовластно. Собственно политика занимает в жизни такого общества скромное место, поскольку делит власть с наукой и техникой, языком и религией, философией и музыкой… И каждый профессионал должен заботиться о том, чтобы сфера его деятельности как можно шире простирала свою власть над людьми. Мы, филологи, должны думать о власти языка, семантики и грамматики, над сознанием и подсознанием людей, о силе риторической и поэтической, которая не подчиняется политической власти, а ей противостоит и над ней возвышается, потому что, как сказал И. Бродский, язык древнее и могущественнее государства.
Чем больше таких властей в жизни общества, тем оно свободнее. И наоборот, когда одна из властей начинает господствовать, оттесняя все другие, это приводит к деспотизму, причем не обязательно политическому. Если религия приобретает всецелую власть над обществом, это фундаментализм; если все сводится к науке или технике, это сциентизм или технократизм; если к морали — морализм; если к искусству — эстетизм… Каждый из этих «измов» по-своему опасен, но всего опаснее политический тоталитаризм. Государство не имеет такой внутренней власти над людьми, как язык, музыка, любовь, научный разум или религиозная вера. Поэтому, как слабейшая из всех, политическая власть более всего склонна прибегать к насилию.
Молчание
Молчание обычно толкуется как отсутствие слов и противопоставляется речи. Людвиг Витгенштейн, заканчивает свой «Логико-философский трактат» известным афоризмом: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать”.
Но верно ли, что молчание и слово исключают друг друга? Парадокс в том, что сама структура витгенштейновского афоризма, параллелизм его первой и второй частей, объединяет молчание с речью и тем самым ставит под сомнение то, что хотел сказать автор. «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Значит, у молчания и речи есть общий предмет. Именно невозможность говорить о чем-то делает возможным молчание о том же самом. Разговор передает свою тему молчанию, которое и становится дальнейшей формой ее разработки, внесловесного произнесения. Разговор не просто отрицается или прекращается молчанием — он продолжается по-новому, создает возможность молчания и в свою очередь углубляется им.
Молчание следует отличать от тишины — беззвучия в природе. Нельзя сказать «тишина о чем-то » — тишина не имеет темы, она, в отличие от молчания, есть состояние бытия, а не действие, производимое субъектом и относящееся к объекту. На различении тишины и молчания построен рассказ Леонида Андреева «Молчание»: после самоубийства дочери вся тишина, какая только есть в мире, превращается для ее отца-священника в молчание, которое давит и преследует его. Дочь так и не ответила на вопрос, почему же она бросилась под поезд, выбрала смерть. «Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина — лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят».
Следовательно, можно так перефразировать заключительный афоризм витгенштейновского «Трактата»: О чем невозможно говорить, о том невозможно и молчать, потому что молчать можно только о том, о чем можно и говорить.
Мудрец
Мудрец не бракует идеи, а брачует их. Не оспаривает, а спаривает.
Музеи заблуждений
Заблуждениям тоже нужно ставить памятники. Они заслуживают их даже больше, чем признанные истины. Ведь и памятники ставят мертвым, а не живым. Истины и так с нами, вечно живые. А заблуждения, в которых слилось столько человеческих надежд, страстей, горений, разочарований, — где им еще быть, как не в памятниках?
Хорошо бы каждой стране возводить музеи своих заблуждений, чтобы их не забывать — и не повторять. А главное — чтобы не исчезало то, что в людях блуждало и заблуждалось: напрасная страсть. И создавать музеи общечеловеческих заблуждений: музей вечного двигателя, музей геоцентрической картины мира, музей коммунизма…
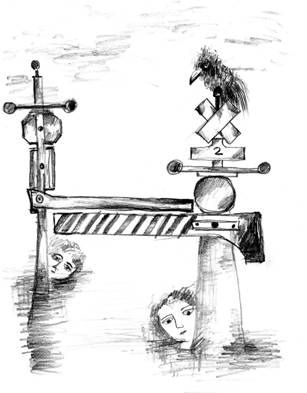
Надежда
Одни люди предпочитают наличность, другие живут в кредит. Надежда — это радость в кредит.
Настроения
Настроение — самый неуловимый элемент человеческой психики. Чувства и эмоции более или менее исследованы, поскольку они предметно направлены. Любовь и ненависть, зависть и страх обращены к конкретным лицам или вызваны определенными событиями. Но что является предметом настроения — бодрого или вялого, мечтательного или игривого, тревожного или печального? Предмет настроения — не кто-то или что-то, а Целое, Всё, Мир, включая меня самого.
По своей целостности настроения равняются лишь мировоззрению, которое больше всяких отдельных идей и концепций. По сути, мировоззрение — не что иное, как застывшее, рационально обоснованное настроение. Можно показать, что мировоззрение Шопенгауэра — это разработанное в понятиях, стройно выраженное капризно-желчное настроение, Ницше — ликующее, экстатическое, Гегеля — задумчиво-созерцательное, Кьеркегора — меланхолическое… То настроение, которое более всего свойственно индивиду и чаще всего посещает его, — оно же, постепенно пронизывая все его представления и понятия, перерастает в общее мировоззрение.
Но чем вызваны настроения, если, в отличие от эмоций, они не обусловлены конкретной ситуацией? Возможно, они выражают внутреннюю подвижность, неустойчивость личности. Известно, что человек не способен пребывать в полной физической неподвижности. Если он стоит, то при этом незаметно переносит центр тяжести с одной ноги на другую; если протягивает руку, то она тоже незаметно вибрирует вплоть до кончиков пальцев. Человек в буквальном смысле — «тварь дрожащая». И настроение есть выражение этой вибрации, проходящей через его тело и внутренний мир.
Но именно поэтому в настроении самом по себе есть что-то стыдное, недостойное. Его подобает скрывать, как слабость, увечье. Захваченные врасплох, спрошенные в упор, даже из лучших побуждений: «Отчего ты сегодня такой грустный?» — мы испытываем неловкость, словно застигнутые за чем-то неприличным. В том-то и дело, что грусть — это всего лишь выход наружу моего внутреннего тремора и разрыв той целостности, какую я в качестве личности должен собой представлять. Люди, склонные к частой смене настроений, вызывают жалость, как те, у кого трясутся руки. Уважение может вызвать лишь сдержанность и достоинство, с каким мы удерживаем эту душевную тряску, пытаясь не поддаться диктату настроений. Давая же им волю, позволяя завладеть нами, мы воистину становимся тварями дрожащими.
Конечно, хорошее настроение лучше плохого, но еще лучше — не иметь настроений вообще, подобно тому, как лучший запах — отсутствие запаха. Душевно здоровые люди не подвластны смене настроений, не впадают попеременно в восторг, отчаяние, веселье, скуку, смешливость, слезливость… Разумеется, эти состояния свойственны всякому человеку — но у цельных людей они выражаются не как настроения, а как эмоции, соразмерные определенному явлению или ситуации. Можно испытывать скуку на скучном спектакле или восторг при чтении гениального произведения, можно кого-то любить или ненавидеть, — но это эмоции, сообразные своему предмету, а не обволакивающие мироздание в целом.
Человек с перепадами настроений похож на белку в колесе, которая, перебирая лапками, сама поддается инерции вращаемого колеса. Настроения мешают нам сознательно строить себя. По мере духовного созревания уменьшается зависимость от настроений, колебание которых сильнее всего у детей и слабее всего у святых. Превращая свои настроения в чувства, в определенное отношение к определенному, мы приобретаем равновесие и способность к внутреннему росту. Чем глубже наши чувства, тем ровнее настроение.
Нащупать брюшко
Зверь ходит по земле, обращенный к ней всем нежным и мягким: и грудью, и брюхом. Снаружи, откуда можно уязвить, — твердый хребет. Так и в растении: снаружи — кора, внутри — влага и мякоть. Так и в человеке: повернулся спиной — какой грубый! повернулся лицом — здравствуй, поговорим, что на душе? Рука сжата в кулак — идешь навстречу врагу; разжата — ласкаешь любимого.
Вот и тайна «вещи-в-себе». Ощути языком прохладную мякоть и сочность плода, пощекочи бархатные изнутри уши олененка, прикоснись к шелковистому животику ежа, когда он разжался, — и ты поймешь, из какой трепетной плоти рождается дух. Мир обращен сразу в две стороны, ввернут внутрь и вывернут наружу, и если изнутри — горячее веянье духа, а спрятанная плоть тепла и нежна, то снаружи — жесткий хребет, все поросло острой щетиной, все холодно и шершаво.
Так постарайся у каждой вещи-в-себе нащупать брюшко. Mожет быть, она разожмется и станет вещью-для-тебя.
Не уверен — не обгоняй
Иные мудрецы и к любви прилагают правило дорожного движения: не уверен — не обгоняй. Не обгоняй в своих чувствах партнера, если не уверен в его взаимности.
Но любовь — это именно готовность разбиться вдребезги на обгоне.