Начался процесс. Спрошены были свидетели, какие были налицо; но дальнейшее следствие основалось почти исключительно на словесных и письменных показаниях Мочениго. Эти показания интересны: они убеждают нас, как мало он был способен понять общие принципы бруновского учения; его поразили одни факты, отдельные отзывы о христианстве, значении чудес и т.п. частные положения, которые система, может быть, слишком нецеремонно освещала, но которые имели смысл только в среде самой системы. В эту связь он никогда не проникал и потому делает выборку только этих фактов, отзывов и положений. В таком голом перечне они не только должны были поразить судей, но поразили самого Бруно. Он никогда не представлял их себе в этой связи и потому ищет теперь поставить их на то место, какое они имели в его теории. Таким образом, он смягчает резкость иных обвинений, другие положительно отвергает; чаще всего он винится в том, что приходил к антихристианским выводам, не вследствие неверия или предвзятости, а потому что слишком безраздельно доверял логике, отдавался свободному развитию своей философии. В этом его грех: он никогда не думал разрывать с христианством, с церковью; он несколько раз, еще в Венеции, помышлял о возвращении в лоно католичества. Он даже кончает чем-то вроде торжественного покаяния, готов смириться, исправиться, показать на себе пример обновления — если ему будет оставлена жизнь.
Он еще хотел жить и надеялся на милостивый вердикт венецианского суда. Может быть, это было только внешнее признание, а внутренне творилось другое, и готовилась знаменитая фраза, оставшаяся за Галилеем — eppur si muove (а все-таки вертится)! Зато, когда в течение процесса ему приходилось говорить о своей философии, он не знает двойственности и ничего не скрывает: напротив того, он настаивает, повторяется, развивает, что могло показаться неясным, хочет быть определеннее, вразумительнее, как будто перед ним не отцы-инквизиторы, а студенты Оксфорда или Сорбонны. Он увлекся, до забвения всей обстановки, тем, что было делом всей его жизни, чем поступиться было для него немыслимо. Он так прост и спокоен, что иногда становится страшно. В XVI веке нет другой такой философской исповеди; это вместе с тем и исповедь целой жизни.
Неизвестно, чем бы кончилось это дело в Венеции, если бы папа и римская инквизиция, которой следствие передавалось по мере того, как собирались показания, не потребовали Бруно в Рим. Венецианское правительство отнеслось было к этому требованию, как нарушающему его верховные права; но в Риме настаивали: Бруно не венецианский подданный; он — монах и ересиарх и потому подлежит ведению папы; еще ранее того он судился в Неаполе и Риме; указано было на несколько прецедентов, когда подсудимые в подобных случаях были переданы Венецией в руки римского трибунала. Коллегия Прегадов собиралась несколько раз для обсуждения этого вопроса; спрошен был прокурор Контарини. Он отвечал, что проступки Бруно по отношению к ереси — очень важные, хотя в других отношениях это — один из самых редких и светлых умов, какие можно встретить. Тем не менее он заключал, что следует исполнить желание его святейшества, как делалось в других подобных случаях. Согласно этому в январе 1593 года Бруно был переведен из венецианской тюрьмы в тюрьму римской инквизиции.
Здесь мы теряем его из виду на семь лет. Что делалось с ним в этот долгий промежуток — неизвестно, и только можем представить себе на основании общих сведений, какие имеем об обыкновенном ходе инквизиционного делопроизводства. Он должен был подвергнуться новому, более подробному допросу; надо было собрать сведения о его жизни за границей, его сношениях с протестантами, наконец, о его книгах, особенно итальянских, которые в Италию почти не проникали. Все это требовало много времени, даже при обычном ходе дела; случалось также, что о преступнике забывали. За допросом следовали увещания, имевшие целью привести виновного к добровольному сознанию своей греховности; затем его оставляли одного с самим собой, чтобы услышать его отречение, присутствовать при его колебаниях и, в сомнительном случае, снова начать допросы. Все это повторялось не раз; должно было повториться и над Бруно. Мы узнаем, что и здесь он так же колеблется и не ровен себе, как в Венеции: он то просит отсрочки и обещает покаяться, то, когда срок прошел, выходит с той же непоколебимой верой в свое философское учение; и затем он снова обещает, чтобы снова возвратиться к самому себе. Только когда страх неминуемой смерти предстал перед ним, он стал спокоен и все колебания исчезли. Когда ему объявили смертный приговор, он произнес с уверенным видом и угрожающим движением памятные слова к своим судьям: «Вы испытываете более страха, произнося приговор, чем я, слушая его».
Семнадцатое февраля 1600 года было днем его казни. Во второй раз Бруно увидел Рим, и снова он был такой же праздничный, как и в первый. Праздновался юбилей: пятьдесят кардиналов съехались в город, по улицам движется пестрая толпа паломников, сошедшихся ко гробу апостолов искать внутреннего мира и отпущения грехов. На этом празднике христианской любви и всепрощения сожжен был на площади человек, толковавший о мировой любви, движущей всем созданием. Он умер на костре спокойно, не проронив ни одного стона.
Из толпы смотрел на эту казнь немецкий ученый Шопп, известный под именем Scioppius: один из тех тупых, задорных эрудитов, каких много встречалось между хористами Возрождения. Вернувшись домой, он тотчас же отписал обо всем своему приятелю, Конраду Риттерсгаузену, такому же, как он, ученому мужу. Сюжет представлялся блестящий, и Шопп не мог воздержаться от риторических вожделений: он так и трактует его, без тени участия, без доли понимания. Письмо, напечатанное в 1621 году, долгое время служило единственным документом о последних годах и казни Бруно. Лишь в недавнее время обратили внимание на письмо Бренгера к Кеплеру и на ответ Кеплера, от 1608 года, где встречаются указания на последнее обстоятельство. Между 1608 годом и 1600-м, т.е. годом казни, о ней не говорится ни полслова, так что естественно могло родиться сомнение — точно ли Бруно был сожжен? Иные даже утверждали, что он сожжен in effigie (заочно), что казнь была совершена только над его изображением. На вопросы, недавно обращенные по этому поводу к хранителям ватиканского архива, последовал ответ в таком смысле, что Бруно был действительно судим, как значится в актах; но какой приговор над ним произнесен — о том ничего неизвестно; еще менее известно — был ли этот приговор приведен в исполнение. Такой человек, как Бруно, мог умереть на площади, среди белого дня, в городе, куда, как нарочно, сошлись на этот раз люди со всех концов Европы, — и о его смерти не сохранилось ни одного современного известия, кроме случайного письма Шоппа, и прошло целых восемь лет, когда появилось первое, столь же случайное указание!
Произведения Джордано Бруно
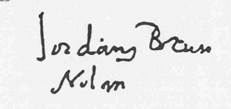
Пир на пепле
(LA CENA DE LE CENERI)
ПИР НА ПЕПЛЕ[5],
описанный в пяти диалогах
четырех собеседников с тремя соображениями
относительно двух вопросов
* * *
Единственному покровителю муз, знаменитейшему
МИКЕЛЮ ДИ КАСТЕЛЬНОВО [6],
синьору Ди Мовисьеро, Конкресальто и Жонвиля,
кавалеру ордена христианнейшего короля
и советнику его тайного совета,
капитану 50 солдат, правителю и капитану
Св. Дезидерия и послу у светлейшей
королевы Англии
МОЕМУ НЕНАВИСТНИКУ
Если больно ты зубом укушен собачьим,
О себе пожалей ты, пес грубый и жалкий!
Ты напрасно грозил мне кинжалом и палкой,
Если силой моей так теперь озадачен.
В грозной битве с неправдой ищу я удачи И тебя поражаю, чтоб бросить на свалку...
Если жизнь оборвет мне небесная прялка.
Твой навеки пребудет позор обозначен.
Не ходи обнаженным за медом пчелиным;
Не кусай, не узнав, где гранит, где горбушка;
Не ходи босиком, раз колючки ты сеешь;
Если муха ты, бойся тогда паутины;
Если — мышь, то не прыгай вослед за лягушкой;
Эй, петух, от лисы убегать ты умеешь?
Верь святому завету,
Что твердит всему свету:
Лишь на поле смиренья
Не взрастут заблужденья[7].
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО,
НАПИСАННОЕ ЗНАМЕНИТЕЙШЕМУ И ПРЕВОСХОДНЕЙШЕМУ
СИНЬОРУ ДИ МОВИСЬЕРО,
КАВАЛЕРУ ОРДЕНА КОРОЛЯ И СОВЕТНИКУ ЕГО ТАЙНОГО СОВЕТА,
КАПИТАНУ 50 СОЛДАТ,
ГЛАВНОМУ ПРАВИТЕЛЮ Св. ДЕЗИДЕРИЯ И ФРАНЦУЗСКОМУ
послу в Англии
Вот вам, синьор, пир в моем присутствии, не нектарный пир Громовержца — ради величия; не пир потомков первозданного Адама — из-за отчаяния; не пир Артаксеркса из-за тайны; не Лукулла — из-за богатства; не Ликаона из-за святотатства; не Фиеста[8] — ради трагедии; не Тантала — из-за страдания; не Платона — ради философии; не Диогена — из-за нищеты; не пиявки — из-за пустяка; не протопопа из Повильяно[9] — ради шутки; не Бонифация[10] из «Подсвечника» — ради комедии. Нет, это пир столь же великий, сколь и малый; столь же поучительный, сколь ученический; так же кощунственный, как и религиозный; такой же веселый, как и злой; настолько же горестный, насколько радостный; по-флорентийски тощий, по-болонски жирный; столь же кинический, сколь сарданапаловский; такой же пустяковый, как и серьезный; настолько строгий, насколько шутовской; так же трагичный, как и комичный. Так что я с уверенностью полагаю, что у вас будет здесь немало случаев сделаться героическим — растерянным; учителем — учеником; верующим — неверующим; радостным — печальным; меланхолическим — веселым; легким — тяжелым; жадным — щедрым; бессильным — всемогущим; софистом с Аристотелем, философом с Пифагором; смеющимся с Демокритом, плачущим с Гераклитом. Я хочу сказать: после того как вы обоняли с перипатетиками, вкушали с пифагорейцами, пили со стоиками, вы сможете еще воспринимать и с тем, кто, ощерив зубы, имеет приятную улыбку до ушей. Поэтому, разгрызая кость и извлекая от туда мозг, вы найдете здесь кое-что, способное разложить святого Коломбина, одного из патриархов иезуитов[11], умилить любой базар, вывихнуть челюсти и прервать молчание на каком угодно кладбище.
Вы спрашиваете меня: что это за симпосион, какой это пир? Это ужин. Какой ужин? На пепле. Что значит ужин на пепле? Разве может быть перед вами поставлено такое кушанье? Разве можно сказать: я ел пепел как хлеб? Нет, это ужин после солнечного заката, в первый день великого поста, называемый нашими попами днем пепла, а иногда — днем воспоминания. В чем же состоит этот пир, этот ужин? Конечно, не в том, чтобы выразить уважение к духу и делам высокородного и благовоспитанного господина Фулка Гривелла[12], в почтенной квартире которого мы собирались; не по поводу почтенных нравов культурнейших господ, которые присутствовали там в качестве зрителей и слушателей, но из-за желания увидать, что может сделать при рода, создавая две фантастические куклы, два сновидения, две тени, две перемежающиеся четырехдневные лихорадки. На этом основании, после того как смысл истории будет про сеян, а затем испробован и разжеван, будут высказаны топографические соображения, а также географические, кроме того рассудочные, а также моральные, да еще умозрения: метафизические, математические и естествоведческие.
Вы будете удивлены, как при такой краткости совершены столь великие дела. Но не смущайтесь, если увидите здесь иногда некоторые менее важные положения; порою казалось, что угрожает опасность очутиться перед строгой цензурой Катона: ведь эти Катоны слишком слепы и глупы, чтобы открыть то, что скрыто за этими Силенами[13]. Если здесь соединено столько различных положений, то пусть не кажется, что в одном месте наука, в другом — диалог, здесь комедия, там трагедия, здесь поэзия, там риторика; здесь хвалят, там порицают, там доказывают или обучают; здесь нечто из физики, а там из математики, здесь из морали, там из логики; и в итоге — нет ни одной отрасли науки, не представленной в отрывках. Подумайте, синьор, ведь это исторический диалог, где, в то время как докладывается о поводах, о движениях, о прохождениях, о встречах, о действиях, о страстях, о речах, о рассуждениях, об ответах, о положениях и неудачных тезисах,— все излагается для строгого суждения этих четырех собеседников, и нет ничего, что не могло бы появиться здесь кстати, с тем или иным основанием. Подумайте и о том, что здесь нет праздного слова, так как во всех частях приходится выяснять и очищать немаловажные вещи и, может быть, больше всего там, где это казалось менее нужным. Что касается находящегося на поверхности, то те люди, которые дали повод создать диалог и, может быть, сатиру и комедию, эти люди имеют возможность стать более осмотрительными и не мерить людей той палочкой, которой измеряют бархат, а души не взвешивать на металлической чашке весов. Те, которые будут зрителями или читателями и увидят, каким образом задеваются другие, научатся быть осторожными и обучатся за счет других. У тех, кто здесь уязвлен и упорствует, откроются, может быть, глаза, и, увидав свою нищету, наготу и непристойность, они, если не из любви, то, по крайней мере, от стыда смогут исправиться или прикрыться, если признают свою вину. Если вам покажется, что наш Теофил или Фрулла слишком глубоко и строго затрагивают основы некоторых положений, то примите, синьор, во внимание, что у многих животных не слишком нежная кожа и что если бы толчки были во сто раз сильнее, то и тогда они ничего не заметили бы или восприняли бы это как детское прикосновение. Я не хочу, чтобы вы считали меня заслуживающим упрека за то, что по поводу такой глупости и на таком недостойном фоне, который представляют эти доктора, я решился защищать столь важные и достойные положения; ведь я уверен, что вы понимаете различие между тем, когда берутся за дело по существу и когда — по случайному поводу. Верно, что основания должны быть пропорциональны величию, условиям и благородству здания; но ведь могут быть всякого рода результаты вследствие разных поводов, так что мелкие и грязные вещи бывают семенами больших и прекрасных дел; глупости и безумства обыкновенно вызывают большие мысли, суждения и открытия. Не говорю уже о том, что ясно: ошибки и преступления много раз давали повод для важнейших норм справедливости и добра.
Если вам покажется, что краски портрета не вполне соответствуют жизни и рисунок представится не вполне отвечающим действительности, то знайте, что недостаток происходит оттого, что живописец не смог справиться с портретом из-за отсутствия пространств и расстояний, какие приняты у мастеров искусств; ведь кроме того, что стол или фон были слишком близки к лицу и глазам, нельзя было отступить назад на самый маленький шажок или отодвинуться в тот или другой угол из боязни сделать прыжок, который совершил сын знаменитого защитника Трои.
Поэтому возьмите этот портрет таким, какой он есть, где даны эти двое, эти сто, эта тысяча, эти все; ведь посылается это не для того, чтобы сообщить вам известное, и не для того, чтобы добавить воды к быстрому потоку вашего суждения и ума, но, как мне известно, хотя обычно мы лучше познаем вещи в натуре, мы все же не имеем обыкновения пренебрегать портретом и представленным на нем. Кроме того, несомненно, что ваше великодушие обратит внимание скорее на чувство благодарности, с которым это предлагается, чем на дар подносящей руки.
Это адресовано вам как человеку более близкому, показавшему себя более благосклонным и более расположенным к нашему Ноланцу, и поэтому мы предполагаем, что вы наиболее достойны нашего почтения в этом климате, где торговцы без совести и веры легко делаются Крезами, а добродетельные люди, не имеющие золота, — Диогенами. Вам, который с такой щедростью принял Ноланца под свой кров, в самый высокий этаж вашего дома, куда эта страна, вместо того чтобы послать за границу тысячи свирепых гигантов и создавать там столько же Александров Великих, послала, как вы видели, более пятисот гигантов, чтобы они составили кортеж вашему Диогену[14]. А между тем он по милости звезд имеет только вас, приходящего к нему впустить луч солнца, если только (чтобы не сделать его беднее названного оборванца-циника) оно бросит несколько прямых или отраженных лучей через известное вам окошко.
Посвящается вам, представляющему здесь в Британии мощь столь щедрого, столь великого и столь сильного короля, который из самой великодушной груди в Европе голосом своей славы ошеломляет последние основания земли; когда он кричит в гневе, как лев в глубокой пещере, то наводит ужас и смертельный страх на мощных хищников лесов, а когда отдыхает и спокоен, то шлет такой жар щедрой и учтивой любви, что воспламеняет соседний тропик, согревает ледяную Медведицу и растворяет суровость арктической пустыни, которая вращается под вечной охраной свирепой Малой Медведицы.
Будьте здоровы!
Диалог первый
СОБЕСЕДНИКИ:
Смит, философ Теофил, педант Пруденций [15],
Фрулла [16]
Смит. Хорошо говорят по-латыни?
Теофил. Да.
Смит. Джентльмены?
Теофил. Да.
Смит. С хорошей репутацией?
Теофил. Да.
Смит. Ученые?
Теофил. Довольно компетентные.
Смит. Благовоспитанные, вежливые, культурные?
Теофил. В известной степени.
Смит. Доктора?
Теофил. Да, сударь. Да, господи, да, матерь божия. Да, да. Я думаю, что они из Оксфордского университета.
Смит. Квалифицированные?
Теофил. Ну как же нет? Избранные люди, в длинных мантиях, облаченные в бархат. У одного — две блестящие золотые цепи[17] вокруг шеи. У другого — боже ты мой! — драгоценная рука с дюжиной колец на двух пальцах, которые ослепляют глаза и душу, если любуешься ими. Похож на богатейшего ювелира.
Смит. Выказывают познания и в греческом языке?
Теофил. И к тому же еще и в пиве.
Пруденций. Отбросьте слова «и к тому же еще», так как это затасканное и устарелое выражение.
Фрулла. Помолчите, маэстро, пока никто с вами не говорит.
Смит. А какой у них вид?
Теофил. Один похож на стража великанши и Оркуса[18], другой на привратника богини тщеславия.
Смит. Так что их двое?
Теофил. Да, потому что это число таинственное.
Пруденций. Как и надлежит присутствовать именно двум свидетелям.
Фрулла. Что вы понимаете под этими свидетелями?
Пруденций. Свидетели — это экзаменаторы ноланской полноценности. Но, клянусь Геркулесом! почему вы, Теофил, сказали, что число два таинственно?
Теофил. Потому что два есть первая координация, как говорит Пифагор, конечное и бесконечное, кривое и прямое, правое и левое и так далее. Два вида чисел: четное и нечетное, из которых одно — мужчина, другое — женщина. Два Эроса: высший — божественный, низший — вульгарный. Два дела в жизни: познание и действие. Две цели в них: истина и добро. Два вида движения: прямолинейное, в котором тела стремятся к сохранению, и кругообразное, в котором они сохраняются. Два существенных начала вещей: материя и форма. Два специфических различия субстанции: разреженная и плотная, простая и смешанная. Два первых противоположных и активных начала: тепло и холод. Двое первых родителей предметов природы: Солнце и Земля.
Фрулла. Сообразно этим вышеупомянутым двоицам я предлагаю другую лестницу двойственности. Животные входят в ковчег по паре, выходят оттуда также парами. Два корифея небесных знаков: Баран и Бык[19]. Два вида упомянуты в псалме: конь и мул. Двое животных по образу и подобию человека: обезьяна на земле и сыч на небе. Две поддельные и почитаемые флорентийские реликвии в вашем отечестве: зубы Сассетто и борода Петруччо[20]. Двух животных называет пророк, как имеющих больше ума, чем народ Израиля: быка, потому что он знает своего владельца, и осла, так как он умеет найти хозяйские ясли. Двое было таинственных животных, годных для верховой езды нашего искупителя: ослица и молодой осел, которые означают древнееврейское верование и новое, языческое. От них произошли два имени, обычные прозвища секретаря императора Августа: Ослицын и Осленкин. Две породы ослов: домашние и дикие. Два наиболее обычных цвета их: серый и черный. Две пирамиды, на которых должны быть записаны и посвящены вечности имена двух этих и им подобных докторов: правое ухо Силенова коня и левое — антагониста бога садов.
Пруденций. Весьма изрядное остроумие. Перечнем сим ни в коем случае не подобает пренебрегать.
Фрулла. Я горжусь тем, мессер Пруденций, что вы одобряете мою речь, что вы благоразумнее самого благоразумия, что вы богиня благоразумия мужского рода.
Пруденций. А ведь сие не лишено изящества и юмора! Но оставим эти взаимные славословия. Сядем, ибо, по словам князя перипатетиков, когда мы спокойно сидим, то становимся мудрыми; и, таким образом, до самого солнечного заката проведем наше четверобеседование относительно результата разговора Ноланца с доктором Торквато и доктором Нундинием.
Фрулла. Хотелось бы знать, что вы подразумеваете под этим четверобеседованием?
Пруденций. Четверобеседование, сказал я,— это беседа четырех, как диалог — беседа двух, трилог — беседа трех, и так же дальше — пенталог, гепталог и прочее, что противозаконно называется диалогами, в смысле собеседования многих. Ведь неправдоподобно, чтобы греки, изобретатели слова диалог, употребляли первый его слог «ди» в смысле начала латинского выражения «диверсус», то есть в смысле «многих».
Смит. Прошу вас, господин маэстро, оставим эти грамматические тонкости и перейдем к нашей теме.
Пруденций. О времена! Вы, кажется мне, мало считаетесь с изящным стилем. Как мы сможем вести хорошее четверобеседование, если не знаем, что означает выражение «четверобеседование», и, что еще хуже, если мы думаем, что это есть диалог. Разве надо начинать не с определения и не с объяснения понятий, как этому учит наш Арпинат?[21]
Теофил. Вы, мессер Пруденций, слишком благоразумны! Прекратите, пожалуйста, эти грамматические разговоры и считайте, что это наше рассуждение будет диалогом: хотя нас четверо, но обязанность спрашивать и отвечать, рассуждать и выслушивать будут выполнять лишь двое. Однако, чтобы приступить и вести дело с начала, придите и вдохновите меня, о Музы! Не призываю вас, говорящих напыщенными и гордыми стихами на Геликоне, потому что опасаюсь, что вы будете жаловаться на меня в конце, когда, после долгого и трудного путешествия, после переезда опасных морей, после того как вы увидите свирепые нравы, вам придется босыми и голыми вернуться в свое отечество, так как здесь нет рыбы для ломбардцев. Оставляю в стороне то, что вы не только иностранки для меня, но вдобавок из той расы, о которой поэт говорит:
Я не был никогда лукавым греком.
Кроме того, не могу влюбиться в то, чего не вижу. Другие, другие сковали мою душу. И этим-то говорю я: грациозные, милые, мягкие, нежные, молодые, прекрасные, деликатные, светловолосые, белолицые, краснощекие, с сочными губами, божественными глазами, эмалевой грудью и бриллиантовым сердцем, благодаря вам я столько мыслей порождаю в уме, столько страстей храню в душе, столько чувств черпаю в жизни, столько слез лью из глаз, столько вздохов испускаю из груди и столько пламени изливаю из сердца. О вы, музы Англии, говорю я: вдохновляйте, внушайте, согревайте, воспламеняйте, очищайте и растворяйте меня; дайте мне сок жизни и заставьте выступить не с маленькой, изящной, урезанной и краткой эпиграммой, но с обильным и широким потоком прозы долгой, текучей, большой и стойкой, чтобы мои берега образовались не пишущим пером, а широким руслом канала. И ты, моя Мнемозина, скрытая под тридцатью печатями и заключенная в мрачной темнице теней идей, спой мне немного на ухо![22]
Как-то пришли к Ноланцу от имени королевского шталмейстера два человека и сообщили, что пославший их желает иметь разговор с Ноланцем, чтобы уразуметь коперниковские и прочие парадоксы его новой философии. Ноланец на это ответил, что он не смотрит ни глазами Коперника, ни Птолемея, но своими собственными, что касается суждения и определения. Что же касается наблюдений, то он считает себя очень обязанным этим и другим старательным математикам, прибавлявшим постепенно, с течением времени, одно объяснение к другому, давшие ему достаточные основания, благодаря которым он пришел к такому суждению, которое могло созреть только после многих нелегких занятий. Ноланец добавил, что фактически они — как бы посредники, переводящие слова с одного языка на другой; но затем другие вникают в смысл, а не они сами. Они же подобны тем простым людям, которые сообщают отсутствующему полководцу о том, в какой форме протекала битва и каков был результат ее. но сами-то они не понимают дела, причины и искусства, благодаря которым вот эти победили; понимает же тот, кто имеет опыт и лучше разбирается в военном искусстве. Так, обращаясь к фиванской Манто, которая видела, но не понимала, слепой, но божественный толкователь Тирезий[23] говорил:
Большая доля истины бывает
Сокрыта от слепого. Но куда
Меня зовут отечество и Феб,
Последую ……………………
Ты, дочка, поводырь отца слепого,
Передавай о знаменьях святых[24].
Подобно этому какое суждение могли бы мы вынести, если бы не были предъявлены нам и не поставлены перед глазами разума многоразличные проверенные данные относительно небесных или близких нам тел? Конечно, никакого. Однако, воздав благодарность богам, подателям блага, происходящим от первого и бесконечно всемогущего света, и восславив усердие названных великодушных умов, мы утверждаем самым ясным образом, что должны открыть глаза на то, что они наблюдали и видели, но мы не обязаны соглашаться с их понятиями, мнениями и определениями.
Смит. Прошу вас, дайте мне возможность узнать ваше мнение о Копернике.
Теофил. У него было серьезное, разработанное, живое и зрелое дарование. Этот человек не ниже ни одного из астрономов, бывших до него, если не говорить о последовательности во времени, человек, по прирожденной рассудительности стоявший много выше Птолемея, Гиппарха, Евдокса и всех других, шедших по их следам. Ему мы обязаны освобождением от некоторых ложных предположений общей вульгарной философии, если не сказать, от слепоты. Однако он недалеко от нее ушел, так как, зная математику больше, чем природу, не мог настолько углубиться и проникнуть в последнюю, чтобы уничтожить корни затруднений и ложных принципов, чем совершенно разрешил бы все противодействующие трудности, избавил бы себя и других от многих бесполезных исследований и фиксировал бы внимание на делах постоянных и определенных. При всем том кто может вполне восхвалить великий дух его, который, обращая мало внимания на глупую массу, крепко стоял против потока противоположной веры и, хотя почти не был вооружен живыми доводами, все же, подбирая ничтожные и заржавевшие обломки, которые можно получить из рук древности, заново их обработал, соединил и настолько спаял своей более математической, чем естественно-научной речью, что превратил дело, бывшее смешным, низким и презираемым, в дело почтенное, ценимое, более вероятное, чем другое, противостоящее ему, и несомненнейшим образом в более удобное и необходимое для теории вычисления? Хотя он и не имел достаточно средств, с помощью которых смог бы не только сопротивляться, но полностью покорить, победить и уничтожить ложь, все же он мог найти твердую почву для себя и совершенно открыто признать следующее: в конце концов необходимо считать более вероятным, что наш шар движется по отношению ко вселенной, чем допустить, что совокупность неисчислимых тел, из которых многие признаны более великолепными и более крупными, имеет вопреки природе и разуму основой и центром своих круговых движений наш шар, хотя они самым чувствительным образом своими движениями доказывают обратное. Кто же будет настолько подлым и невежливым по отношению к труду этого человека, который, даже если забыть то, что было им сделано, был послан богами, как заря, которая должна предшествовать восходу солнца истинной античной философии, в течение веков погребенной в темных пещерах слепоты и злого, бесстыдного, завистливого невежества; кто пожелает, обращая внимание на то, чего он не мог сделать, скорее поместить его в ряды стадной массы, бегущей, ведомой и падающей вследствие послушания грубой и низкой вере, чем включить в число тех, которые могли восстать благодаря своему счастливому уму и подняться благодаря вернейшему сопровождению ока божественного понимания?
Но что скажу я о Ноланце? Может быть, мне не следовало бы хвалить его, потому что он так же мне близок, как я сам себе? Конечно, не найдется рассудительного человека, который упрекнул бы меня в этом, принимая во внимание, что оно иной раз не только пристойно, но и необходимо, как об этом удачно говорит изящный и культурный Тансилло:
Кто славы ищет, чуждый лицемерья,
Не должен говорить про самого себя,
Ведь наш язык не заслужил доверья,
Где сердце увлекается, любя;
И лучше подождать — не вижу в том потерь я,—
Чтоб человек другой стал прославлять тебя,
Когда одно из двух свершить способно слово:
Упреки устранить — обрадовать другого[25].
Все же если найдется человек, столь гордый, что не захочет допустить ни по какому поводу собственной или почти собственной похвалы, то пусть он знает, что ее иной раз нельзя отделить от отчета о своих настоящих действиях. Кто упрекнет Апеллеса, который, показывая свое произведение хотевшему узнать о нем, говорил, что это творение его рук? Кто станет порицать Фидия, который на вопрос об авторе его великолепной статуи ответил, что это он? Следовательно, чтобы вы поняли данное произведение и его важность, я предлагаю в виде заключения то, что очень скоро легчайшим и самым ясным образом будет доказано. Если получил похвалы античный Тифис за то, что первым изобрел корабль и прошел с аргонавтами море: