— Добрый вечер. Пойдемте, — сказал Глинский.
— Почему тут везде так пусто?
— Аренда очень дорогая. Мало кто снимает.
— А как же вы…
— А я работаю тут охранником. И не плачу за съем помещений.
Заинтригованный, Камарин пошел следом: и как этот сам-себе-режиссер умудряется протащить сюда, выходит, без разрешения целую толпу народу? Судя по трем сериям, в фильме был задействован весьма основательный актерский состав.
Вдоль узкого коридора стоял офисный стол, с него на Камарина пялилась прямоугольным раструбом бленды бюджетная, но довольно приличная видеокамера. Глинский взял ее наизготовку, точно оружие. Посмотрел на часы.
— Почти половина восьмого. Именно в половину восьмого все и началось.
— Что именно?
— Пожар в госпитале. Продолжался до часу ночи. Если нам повезет, у вас будет достаточно времени, чтобы все рассмотреть.
— Не понимаю, о чем вы? — Камарину показалось, что собеседник заговаривается. Снова подкатило раздражение. Этот самоучка с «Ютьюба» был, конечно, талантлив, но при том крайне несимпатичен и к тому же несколько не в себе.
Глинский обернулся и в упор посмотрел на Камарина. В полумраке служебного коридора его глаза, чудилось, слегка светились, будто у кошки.
— Правила помните? С теми, кого вы тут увидите, не разговаривать. Меня слушаться беспрекословно.
— Да в самом же деле! Я не понимаю ни хрена!
— Я тоже до сих пор не все понимаю. Хотя прочел все, что смог найти на эту тему. Есть теория, что живые существа оставляют энергетические отпечатки. В местах массовых смертей эти отпечатки наиболее сильны и отчетливы. По-видимому, они обладают каким-то остаточным разумом... Еще есть теория, что материи как таковой не существует, все во вселенной по сути — энергия...
Камарин повернулся, чтобы уйти. Только экскурсии с сумасшедшим ему не хватало.
И вдруг рядом хлопнула полуоткрытая дверь. Сама по себе медленно-медленно отворилась и снова с треском захлопнулась. Камарин еще ничего толком не осознал, но за шиворот ему словно сыпанули ледяного бисера, мелко ссыпавшегося вдоль позвоночника.
— Все, началось, — с удовлетворением заявил Глинский. — Похоже, вы сумели вызвать их интерес. На меня одного они уже, увы, далеко не всегда реагируют, совсем привыкли, а материал снимать дальше надо…
— Кто — они? — тихо спросил Камарин, уже, впрочем, зная ответ.
— Мои псевдоактеры, — с холодной иронией усмехнулся Глинский.
С другой стороны хлопнула еще одна дверь, и еще; в пустых офисах послышались голоса.
— Здесь их увидеть довольно просто, — прибавил Глинский. — Они хотят быть увиденными. Потому что их убили. Сожгли заживо. Они хотят, чтобы об этом узнали. Пойдемте.
Камарин, не слушая, бросился к выходу, но отскочил обратно, потому что прямо на него, будто не видя, шел величавый мужчина с седой бородкой, в высоком белом колпаке и в медхалате, какие носили в советские времена. Врач выглядел… нормально. Не просвечивал или что-то такое. Но повернул в одно из пустых офисных помещений и просто… исчез.
Камарин беззвучно открыл рот и попятился обратно. Он не псих. Но он видел то, что видел.
— Так вы снимаете призраков. — Ему просто нужно было это произнести, чтобы до конца осознать. — Почему, как?..
— Как это началось? — Глинский слегка пожал плечами, качнув неповоротливой видеокамерой. — Когда-то я мечтал снимать кино, как и вы. Жизнь не позволила. Кстати, фамилия у меня, как вы понимаете, вовсе не Глинский, обычная дурацкая фамилия… Устроился сюда охранником. Сначала пугался всего, думал: спятил. Хотел уволиться. Потом понял, что показываются они не всем… что-то им от меня нужно. Я понял что. И начал снимать. Но я им несколько приелся в качестве зрителя. А тут вы...
Все время, пока спутник говорил, Камарин по инерции шел вперед по коридору, и пространство вокруг неуловимо менялось — даже нельзя было сказать, в какой именно момент узкий гипсокартонный коридор превратился в просторный, крашенный масляной краской, а небольшие двери, исчадия убогого евроремонта, стали широкими, рассчитанными на то, чтобы провезти тяжелые больничные койки-каталки.
— Отчасти я даже привык ко всему этому, — прошептал рядом Глинский. — Но полностью привыкнуть невозможно.
Они медленно направились дальше. Все кругом было сумрачно-серое, с неожиданными и в чем-то неправильными источниками блеклого туманного освещения, и стены время от времени будто плыли в легкой дымке, слегка деформировались, чтобы затем снова вернуться на место. Камарин инстинктивно держался совсем рядом со спутником, почти вплотную: черт побери, ему было по-настоящему страшно, кроме того, донимало все-таки неслабое подозрение, что он попросту сошел с ума. Невольно он заглядывал в палаты — двери во всех стояли распахнутыми. Койки там были поставлены так тесно, что между ними можно было пройти только боком. И на всех койках лежали люди. Инвалиды. Калеки. В голову приходило страшное в своем цинизме слово «обрубки». У всех пациентов здесь не хватало как минимум двух конечностей. Больше всего повезло тем, у кого были рука и нога, такие сами передвигались с помощью костыля, неуклюжие, но приноровившиеся ловить равновесие, наклоняясь под странными углами. У большинства же отсутствовали либо обе руки, либо обе ноги. Страшнее всего было смотреть на тех, кому оторвало — или ампутировали — все конечности. Такие лежали на кроватях, укрытые крохотными, детскими одеялами, похожие не то на человеческих личинок, не то на младенцев-переростков, и их непомерно большие головы покоились на высоких подушках — угловатые, плохо выбритые головы взрослых, повидавших на своем веку все самое ужасное людей, с морщинистой задубевшей кожей и почему-то очень ясными, лучащимися глазами, словно наполненными битым хрусталем.
От всего увиденного Камарин не чувствовал собственных ног. Он вспомнил недавний свой сериал про войну, и, если бы можно было умереть от стыда, он, наверное, издох бы на месте. Он поймал себя на том, что, как ребенок, ловит за локоть Глинского, боясь потеряться в невозможной псевдореальности прошлого.
— Почему… почему вы думаете, что их убили? — пробормотал Камарин. — Они же воевали, они же герои, за что их убивать…
— Да кто теперь разберется, почему и за что, — сухо ответил Глинский. От его мягкой стелющейся вежливости не осталось и следа. — Мне самому интересно. Пожар они мне еще ни разу не показывали. Иногда мне кажется, они показывают только то, что моя психика способна выдержать.
Доктора, медсестры, ходячие инвалиды — они двигались навстречу так, словно это Камарин и Глинский были призраками. Персонал и пациентов приходилось обходить. Очень жутко становилось при мысли о том, что их можно ненароком коснуться.
— Они нас не видят?
— Не знаю. Возможно, чувствуют. Ни в коем случае не заговаривайте с ними. Мы балансируем на самой грани между их миром и нашим. Что бы ни случилось, не устанавливайте с ними контакт...
— А что тогда будет?
— Ничего хорошего.
— Откуда вы знаете?
— Знаю, и все, — ответил Глинский таким тоном, что Камарин понял: лучше заткнуться.
Коридор вывел в обширное помещение, вроде зала, где стояли столы и скамьи. Здесь, похоже, обучали общественно полезной работе тех инвалидов, кто мог делать хоть что-то. Камарин увидел безногих, которых учили шить обувь, увидел, как безрукий печатает пальцами ног на пишущей машинке, увидел, как парень учится писать с помощью обрубков рук — и на правой, и на левой не было кистей, локтевая и лучевая кость жутко торчали, по отдельности обтянутые кожей. Парень старался удержать в этих обрубках карандаш. Камарина слегка затошнило.
Совсем рядом на скамье сидел инвалид без руки и ноги, он пытался поднять упавший костыль. Это был старый солдат, возраста отца Камарина, даже лицом похож: с глубоко посаженными глазами и резкими прямыми складками на щеках. Он сдвигался на самый край скамьи, наклонялся, едва не падая, и все никак не мог дотянуться. И вдруг посмотрел прямо на Камарина, глаза в глаза.
— Сынок, — сказал солдат. — Сынок, ну помоги мне.
Камарин рефлекторно нагнулся за костылем.
— Эй! — Глинский, стоявший спиной и снимавший на камеру парня с оторванными кистями, резко обернулся.
— Спасибо, сынок, — сказал старый солдат.
— Пожалуйста, — машинально ответил Камарин. И в этот миг словно выключили свет. Тьма опустилась так резко, что Камарину почудилось, будто он потерял сознание.
Постепенно тьму рассеяло тусклое, дымчатое серое сияние из окон. В помещении посветлело, и стало ясно, что зал — совершенно черный от сажи, выгоревший, с закопченными стенами. От столов и скамей остались обугленные, обглоданные огнем деревяшки. И не сразу Камарин разглядел, что кучи пепла у окон — это до костей обгоревшие трупы.
— Мать вашу, — пробормотал Камарин, озираясь, отчаянно не желая верить, что по горло вляпался. — Георгий! Кто-нибудь!..
Холодный воздух горчил и кислил от влажной гари. Все кругом было ужасающе настоящим. Хрустели под ногами обломки. Если это была призрачная реальность — черт, она выглядела слишком материальной.
В панике Камарин заметался по выгоревшему залу. Непроглядно черные глотки коридоров пугали. Взгляд уперся в череду мягко сияющих окон, будто забранных матовым стеклом — почему оно не разбито? И что за ним? Быть может, если разбить стекло — морок уйдет?
Камарин поднял обугленную деревяшку (совершенно настоящую, тяжелую, пачкавшую руки сажей) и изо всех сил саданул ей по ближайшему стеклу. Вместо стекла на окне оказалась какая-то пленка, невероятно прочная, тугая, словно даже живая — как Камарин ни бил в нее, как ни растягивал руками, она не рвалась — это напоминало некоторые кошмары, когда вроде силишься проснуться, пытаешься даже встать, но сознание только зря барахтается в трясине сна, и спустя миг, час, вечность наконец посыпаешься мокрый от ужаса…
Может, я умер, думал Камарин. Может, я тоже призрак? Или этот чертов сам-себе-режиссер треснул меня чем-то по башке, едва я зашел в здание, и все остальное — лишь видения, порожденные травмированным мозгом?
Может, я просто сошел с ума?..
***
Камарин не знал, сколько времени прошло. Его телефон не видел сеть и показывал почему-то 10.30 утра. Хорошо хоть, батарея была почти полностью заряжена. Он сидел прямо на полу, засыпанном обломками и пеплом, покачивался из стороны в сторону, как полоумный, и вспоминал рассказы времен своего детства — о пропавшем в заброшенной киностудии подростке. Зачем призраки забрали его? А зачем они забрали Камарина? Чего они хотят?
«Они хотят быть увиденными, — вспомнились слова Глинского. — Иногда мне кажется, они показывают только то, что моя психика способна выдержать».
— Что вы мне хотите показать? — прошептал Камарин, чувствуя вкус пепла на губах. — Что? — повторил он громче. — Что я должен сделать?!
Мертвое призрачное здание ответило лишь тишиной.
Тогда Камарин поднялся и направился в один из коридоров. Должен же быть выход… Коридор оказался не так темен, как почудилось поначалу. Тусклый холодный свет проникал из распахнутых настежь дверей, за которыми были выгоревшие палаты: черные металлические остовы кроватей с обугленными, рассыпающимися слоистым пеплом телами. Многие тут не то что не могли бежать, когда начался пожар, — не могли даже подняться.
Но больше сгоревших тел Камарина ужаснули разводы на стенах. Сначала он не понимал, что движется на периферии зрения, то и дело шарахался в сторону и оглядывался. А потом сообразил, что разводы копоти и трещины в отслоившейся краске не хаотичны, они складываются в изображения лиц, и лица эти, полные боли, таращили глаза, беззвучно разевали рты. Сначала Камарин не верил себе, затем просто смотрел, загипнотизированный ужасом, и в конце концов зачем-то достал смартфон — заснять увиденное как доказательство, что ему не мерещилось, на случай, если он все-таки выберется отсюда живым. И тогда лица начали постепенно таять, словно погружаться в стены. На экране смартфона это выглядело как заставка для заглавных титров фильма, и Камарин понял, что от него нужно.
Больше он не выключал камеру. Просто шел вперед, держа телефон перед собой, надеясь, что батареи хватит на все, что ему — почему-то именно ему — хотят показать. Быть может, потому что именно он способен все это выдержать без вреда для рассудка.
Он снимал выгоревшие палаты с безрукими и безногими телами на койках. Снимал окна, возле которых лежали обгоревшие тела тех, кто пытался выбраться. Затем холодный свет сменил оттенок, затеплился кроваво, и, идя дальше, Камарин видел — и снимал — палаты в огне, где за стеной пламени корчились и вопили люди. Затем видел — и снимал, — как пламя безудержно распространяется по деревянным перекрытиям, сначала закрадываясь в палаты легким дымом, затем робкими языками, и вот уже начиная бушевать, пожирая все на своем пути. Перед Камариным словно прокручивали нарезку эпизодов в обратном порядке. Он совершенно ошалел, почти отупел, у него онемела поднятая рука, но продолжал снимать — возможно, он действительно был одним из немногих, кто сумел бы не убежать от рвущегося навстречу пламени и от диких криков, кто просто продолжал бы делать свою работу. Просто продолжал бы снимать материал для кино.
...Следующая палата оказывается еще невредимой, с белоснежными койками, с тихо лежащими на них беспомощными людьми. И здесь в полстены — чисто вымытое прозрачное окно, за которым виднеется заросший березами вечереющий двор и какой-то парень, старшеклассник. Он замахивается в окно бутылкой с зажигательной смесью. Лицо этого парня. Его можно разглядеть только из окна. И видно его вполне отчетливо — даже на экране телефона.
Лицо преступника. Отчего-то оно кажется Камарину смутно знакомым — и будто со стороны, кем-то явно подсказанная, приходит мысль, что оно похоже на лицо местного партийного деятеля, памятник которому стоит через два квартала.
Следующая палата — и через окно Камарин видит все тот же двор с глухим забором, и инвалидов на прогулке: их вывозили в креслах-каталках, укутанными в одеяла, да так и оставляли подышать сырым весенним воздухом. Видит и того же самого парня с приятелями: они залезли на забор просто ради праздного любопытства, от нечего делать, поглазеть на свезенных со всей страны «самоваров». Слово за слово, оскорбление за оскорбление: «Чего вылупился», «Да пошли вы», «Было бы на чем идти», «Тогда катитесь». А затем дружное «Щенок!», «Бездельник!» и «Ничтожество!». Все то же самое, что парень каждый день слышит от отца, каждый день, много лет, но в высокопоставленного отца он не может швырнуть бутылкой с горючим, а в этих инвалидов — запросто.
Скорее всего, дело о поджоге замяли.
Наверняка никто так и не узнал.
Очень вероятно, никто уже так и не узнал бы никогда.
Быть может, Камарина уже готовы отпустить (как прежде отпустили Глинского, как отпустили подростка, хотя тот ничего никому не рассказал об увиденном, а попросту сошел с ума). Ведь он заснял все, что следовало. Но он идет и идет вперед, завороженный кадрами на экране — наконец-то настоящими, наконец-то предназначенными что-то поведать миру, наконец-то несущими подлинный смысл.
Приглашаем на страницы автора:
https://litnet.com/ru/oksana-vetlovskaya-u54029
https://www.instagram.com/oxana_vetlovskaya/
Творческая группа: https://vk.com/nescitoccasum
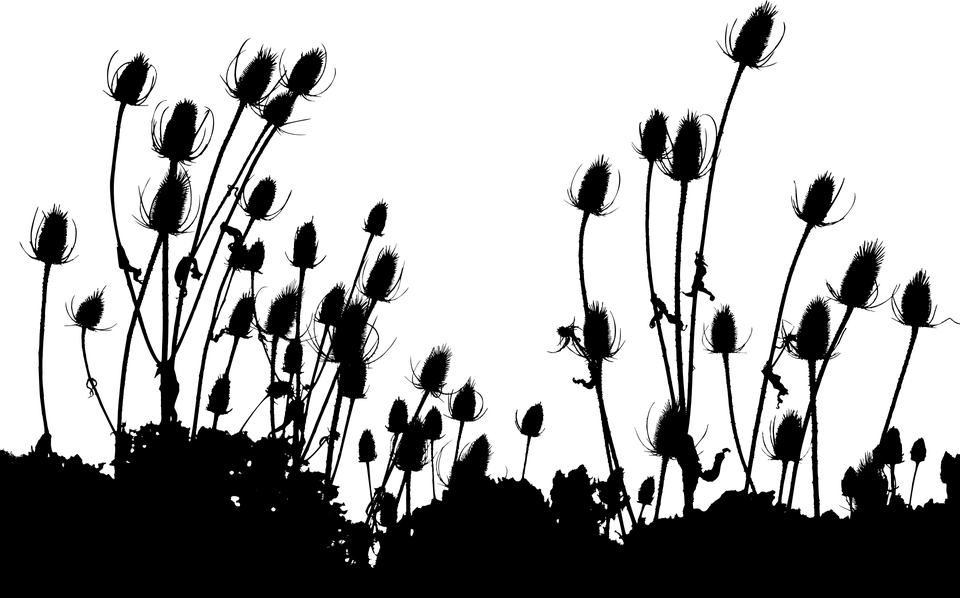
Эмилия Галаган
МОЙ ГЕРОЙ
Деревня. Вечер. В комнате друг напротив друга стоят два кресла. В одном — бабушка (она в халате, наброшенном поверх ночной сорочки, на носу у нее очки) читает народный календарь. В другом мама — листает газету «Сильски висти». Мы с сестрами беснуемся в спальне: заворачиваемся в покрывала — типа мы древние греки — и пытаемся говорить речи, то и дело срываясь на безудержный гогот.
— Та-ань, подывы, шо пышуть, — говорит бабушка и зачитывает вслух какой-то диковинный метод избавления от бородавок при помощи сырой картофелины и длиннющего заклинания.
— Киньтэ, мамо, воно дурнэ! — презрительно бросает мама. — Дивчата, а ну тыхо!
Мы еще какое-то время дурачимся, но потом все-таки расползаемся по кроватям, и я — после долгих уговоров («Да я уж вам сто разив рассказувала!») все-таки начинаю свою историю...
Я всегда тренировалась на сестрах. Ну а для чего еще человеку дано целых три младшие сестры? Правильно, испытывать на их силу своего творческого дара.
Этот, в высшей степени напрасный и случайный, дар то и дело преобразовывал реальность во что-то странное. Например, в чорнэ волохатэ. Чорнэ волохатэ было моим любимейшим творением. Про него я рассказывала сестрам на ночь. И только по их настоятельным просьбам!
Эта живая жуть имела облик огромного черного косматого шара с крошечными алыми глазками. (Образ, родившийся во время мытья полов, когда из-под кроватей шваброй я выкатывала на свет огромные клубки темной, мягкой и как будто живой пыли). Чорнэ волохатэ владело искусством гипноза — когда оно ночью (ну а когда еще промышлять подобному монстру?) вкатывалось в спальню, то тут же наводило на всех спящих странное оцепенение — они не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. И тогда чорнэ волохатэ принималось за свой адский пир. Оно открывало огромную, красную пасть, полную зубов, напоминающих зубья пилы (это я выдумала, когда мы с сестрами пилили дрова) и принималось грызть ноги несчастной жертвы! Вжик-вжик-вжик! Челюсти отпиливали человеку сперва ноги до колен... Брызги крови летели во все стороны, а жертва не могла даже закричать от боли (на нее же действовал гипноз чорного волохатого)... И так продолжалось до самого утра... Когда на залитой кровью постели находили только лежащую на подушке голову с выражением нечеловеческой муки на лице… (Я никогда не брезговала штампами.) Когда я добиралась до выражения «нечеловеческая мука», самая младшая из сестер, как правило, не выдерживала:
— Ми-ми-лочка, можно я лягу с тобою?! — заикаясь, спрашивала она, и я, разумеется, великодушно разрешала.
Ночью я несла заслуженную кару — самая младшая сестра, довольно крупная девочка, лягалась во сне, так что мне приходилось ютиться на самом краешке кровати.
Но как-то раз ночью в нашей спальне оказался кот Сирык (обычно его не пускали в дом, это был уличный котяра с бандитскими повадками). Прятавшийся где-то под кроватью Сирык, когда все уснули, выбрался наружу и, увидев торчащую из-под одеяла ногу младшей сестры, отреагировал по-своему, по-кошачьи — впился в эту ногу зубами. Какой стоял ор, мне не забыть никогда! Кот был вышвырнут на улицу, младшую сестру еле-еле успокоили, а я поклялась больше никогда никого не пугать.
Превратившись во взрослую тетку, я сдержала слово: стала писать унылую прозу для унылых людей и никогда никого не пугала (ну только если чрезмерной правдивостью).
Но иногда, получая критические отзывы типа «Обстановка лишена объема», «Идея какая-то безыдейная», «Вода в описании дождя недостаточно мокрая», я страстно хочу вызвать из темного чулана моего детства чорнэ волохатэ, чтобы оно неслышно прикатилось в комнату критика посреди ночи... и вжух-вжух-вжух!
А главное — выражение нечеловеческой муки, исказившее лицо. Лицо, которое бессильно будет даже прохрипеть: «Это же штамп!»
Ха-ха, думаю я, ха-ха.
И пишу критику вежливый ответ.
Самая младшая сестра уже замужем, у нее есть маленький сын. А еще она ни за что не хочет заводить в квартире кота.
КУДА НАМ ИДТИ?
Как же я радовалась, что общагу дали. Конечно, комнатка убитая, но ничего, жить можно.
Хуже всего была кровать, такая с железной сеткой, провисавшей до самого пола. Считай, гамак. И скрипит! Перевернешься с боку на бок — так взвизгнет, что аж подскочишь. А как спина наутро болит!.. Правда, я быстро выход нашла: в коридоре стояла бесхозная дверь, снятая кем-то с петель, ее я и уложила на кровать поверх сетки. Тут возникла другая проблема: с лакированной поверхности двери соскальзывал матрас. Пару раз за ночь съехав на пол, я решила убрать матрас в шкаф, а на двери-кровати просто постелила простыню. Жестко, конечно, вышло, но ничего, привыкла: спала на спине, даже не ворочалась ночью. Лежала себе как труп в пустыне, то есть на простыне, и смотрела свои студенческие сны.
В комнате напротив жила Валя, девушка с диваном. Не могла она на общаговской кровати спать. Купила диван этот, его еще грузчики привезли, сильно ругались, когда в дверь пройти не удавалось. Еле-еле его втащили в ее комнатку.
Валя была общительная, много говорила, часто жаловалась.
— Ехала, собиралась впопыхах! Утюжок для волос не взяла. Как я теперь без утюжка? А он дорого стоит! А я уже диван купила! Теперь вот думаю: потерпела бы и на кровати!
Я пожимала плечами.
— Не могу без утюжка, — снова повторяла она. — Это мое все.
— Все — это Пушкин, — попыталась пошутить я, но она не поняла.
— При чем тут Пушкин? Его можно в библиотеке взять...
Валя очень гордилась тем, что была замужем. Три года! Сразу после школы вышла за одноклассника. С ее слов, они хорошо жили, очень, но потом почему-то разошлись, и она поступила в вуз.
Мы с Валей не очень-то дружили. Она слишком много говорила, и словечка не вставить, ну а если самой потрепаться нельзя — разве ж это дружба?
С деньгами было кисло, стипендии не хватало, и я устроилась на работу, в колл-центр. В общагу приходила поздно и сразу валилась спать.
Тогда мне и стали сниться эти сны. Каждый день — одно и то же. А ведь я была уставшая, вымотанная, да и спала на неудобной деревяшке, почему бы не вырубаться полностью, так нет — сны, каждый день сны!..
Какая-то женщина ходила по моей комнате, женщина в ярко-синем халате с красными узорами, что-то типа иероглифов. На ногах — толстые шерстяные носки и розовые сланцы.
Женщина просто слонялась по комнате, бесцельно, то в одном углу постоит, то в другом, то выбившуюся прядь волос за ухо заправит, то рукава халата закатает. А потом спрашивает, растерянно так:
— Зачем я сюда пришла?
Как, знаете, бывает в своей квартире, когда отправишься в другую комнату, а по дороге забудешь, зачем шел. Так вот и она.
И снова ходит, ходит...
А потом вдруг замрет, взгляд — прямо на меня, но как будто не видя — и говорит:
— А куда мне теперь идти?
Жалобно так. А меня бесить начала эта ее жалобность. Откуда я знаю, куда идти ей? И вот говорю я про себя во сне как-то раз:
— Да куда хочешь, туда иди, только уходи отсюда!
На следующую ночь она мне не приснилась. И потом тоже.
А через несколько ночей я проснулась от того, что кто-то дико орал в коридоре.
Вышла, смотрю: народ бежит на кухню. А там Валя, у которой диван — сейчас и муж — раньше. Ее уже кто-то из прибежавших первыми девочек обнял, утешает. Я спрашиваю:
— В чем дело?
Народ только сонно моргает, ничего не понимает.
Успокоили Вальку. А назавтра вечером она сама ко мне пришла и рассказала, что случилось.
— Не спалось мне. Муть какая-то на душе стояла, муть. Я вышла из комнаты, прошлась по коридору. Слышу: на кухне кто-то есть. А мне поговорить так охота! Подхожу к кухне, вижу: свет горит. Захожу: нет никого. Вот думаю, странно. И свет горит! Мой Слава очень не любил, когда я забывала выключить свет... Кричал: «Не работаешь, так хотя бы экономь!» Так и приучил меня, я всегда-всегда за собой свет тушу и за другими тоже... Я только повернулась к выключателю, свет погасить, как вдруг, знаешь, этим... боковым зрением вижу: что-то двинулось рядом со мной. Оборачиваюсь — так и есть, стоит женщина. Стоит прямо напротив меня. Как она тут оказалась, когда только что тут никого не было? В кухне-то никаких закутков нет, все на виду: две плиты, столы, мойка... А она стоит просто напротив меня. С меня ростом, в синем халате фланелевом, волосы в хвостик собраны. На ногах носки толстые и эти... тапочки для душа... Стоит, смотрит... Я ей начала говорить что-то, а она мне резко так: «А некуда мне отсюда идти!..» И исчезла! Просто взяла и исчезла! Как не было ее, понимаешь? И тут я как заору!
Валька заплакала.
— Страшно мне, страшно...
— Да ладно тебе... Подумаешь, глюк словила... Или призрака увидела...
— Я с ума не сошла? Может, я свихнулась? Может, я ненормальная?
— Нет, нет, что ты... Я ее тоже... видела.
И я рассказала ей про свои сны.
— Может, это такой общажный дух, — подытожила я. — Ему некуда идти, вот и слоняется здесь. Ничего интересного.
— Ага, — согласилась Валя, — ага.
Она вздохнула.
— А я уже думала, что свихнулась. Я ведь немножечко того, ты же заметила. Говорю, как из пулемета. А я просто нервничаю… Я ведь никогда так далеко от дома не была, никогда. Сперва с родителями жила, потом с мужем, а потом Слава меня выгнал... Сказал: готовишь плохо, не хозяйка ты... а я так плакала, плакала... а потом в универ этот подала документы, чтоб подальше, подальше от всего этого...
— Ну… а я от родителей сбежала...
Мы проговорили всю ночь. И когда она уже уходила, в дверях, вдруг как-то виновато сказала, с улыбкой:
— Но ведь... у нас есть куда идти, правда?
— Ну конечно, — сказала я. — Конечно. Иди спать.
И я завалилась на свою дверь-кровать — и мне открылась пустота — только на пару часов, потому что потом взревел будильник: пора на работу.
Валя вскоре устроилась продавцом в салон сотовой связи. Работа — это наше все.
ВНИЗ-ВВЕРХ
Конечно, хорошо работать по призванию. Но в наше время не то что по призванию — по специальности работают единицы.
Вот охранник Гусев, к примеру, по образованию журналист. Да-да, тот самый Гусев, который сильно заикается еще. Такой высокий мужчина, с залысинами, в очках.
С ним историй приключилась ой-ой.
Не слышали? Да ладно!
Хотя это хорошо, что не слышали: я вам расскажу так, как я сама эту историю представляю. А то неизвестно, как бы ее кто другой рассказал. Есть же люди, которым совершенно нельзя доверять истории: все переврут, а под конец еще и какую свою мораль привяжут — хлебом не корми, а дай народ жизни поучить.
Короче, Гусев после вуза пошел работать журналистом в газету. Его там гоняли — мама не горюй! Снег выпал: Гусев, поди узнай, что народ думает о снеге. Президента выбрали: Гусев, поди узнай, что народ думает о президенте. Конец света предсказали: Гусев, поди, узнай, что народ думает о конце свете. А народ одно твердит: летом — жарко, зимой — холодно, у власти жлобы, денег нет. Но Гусев был старателен, да и с людьми ладил неплохо, по крайней мере хамить ему никто не пытался, так как росту он, как вы помните, высокого и вид у него внушительный. В общем, как-то раз послали его не народ опрашивать, а взять интервью у местной знаменитости. Отправили Гусева к самому писателю Н., который когда-то прославил наш город своим романом «Вечное падение». Роман этот писатель создал уже давно и с тех пор выступал лишь с небольшими рассказами и эссе, которые с охотой печатали журналы. Однако все знали, что Н. над чем-то работает, вот Гусеву и поручили узнать — над чем.
Писатель жил в центре города, окна его дома выходили в тихий дворик, где деревья давали густую тень, детишки громыхали ржавыми качелями, а старушки кормили полчища бродячих котов, которыми благоухало на лестничной клетке.
Квартира писателя напоминала музей — всякие старинные предметы вокруг, на стенах картины, фотографии девятнадцативечные, где все такие из себя дамы, а рядом кавалеры с подкрученными усами.
Говорили они недолго.
Писатель больше жаловался на здоровье да на то, что сейчас все стало каким-то другим, не таким, как раньше. Вот он пишет, пишет новую книгу и все пытается понять: какой он, сегодняшний читатель, как написать так, чтоб донести до него свою мысль?
— Боитесь оказаться непонятым? — спросил Гусев.
Писатель только махнул рукой:
— Чего уж! На понимание и не надеюсь... Боюсь умереть прежде, чем закончу...
— А если в двух словах, то какова главная мысль вашего романа?
— В двух словах? Жизнь бессмысленна.
— То есть вы боитесь умереть прежде, чем закончите роман о том, что жизнь бессмысленна?
Писатель улыбнулся.
— Все верно. Подумайте об этом на досуге.
«Выпроваживает», — подумал Гусев, поэтому попрощался и ушел, немного обидевшись.
В дверях он бросил последний взгляд на писателя. Крепкий старикан, только ссутулился сильно да кашляет то и дело. Вон и горло шарфом замотано. Хотя шарф, может, это стильный аксессуар, кто их, писателей, разберет...
Гусев начал спускаться по лестнице, раздумывая о том, надо ли описывать ее в статье. Ничего особенного в лестнице не было, поэтому он решил ее не упоминать. (Гусев старался писать так, чтоб каждая деталь несла смысл. Вообще втайне он мечтал написать роман, но, конечно же, не о бессмысленности жизни, а о ее смысле.) Перебравшись на серьезную тему смысла и лестниц, Гусев вышел из подъезда — сделал несколько шагов и... дикий вопль пронзил его мозг, как будто в ухо воткнули вязальную спицу. Звук шел откуда-то сверху: Гусев задрал голову и увидел, как к нему стремительно летит человек, размахивая в воздухе руками и ногами. Секунда — и Гусев не поверил своим глазам — человек так же стремительно полетел вверх, а потом снова вниз... а потом вверх... словно кто-то огромный привязал к нему резинку и играл с ним, как с мячиком... Гусев отчетливо разглядел его серые брюки, белую рубашку и развевающийся красный шарф на шее... Перепуганный журналист пулей влетел в подъезд и, перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, добежал до квартиры писателя и забарабанил в дверь, забыв про звонок.