В литературе обсуждается также терапевтическое воздействие, оказываемое различными формами пребывания в Сети. Л. Горалик полагает, что Сеть в целом дает возможность настраивать мир под себя. При этом она вызывает два конфликтующих ощущения: громадности мира, его информационной глубины, неохватности ресурсов — с одной стороны, и мизерности мира, близости и схожести людей вне зависимости от географического расположения, чуть ли не местечковой легкости в завязывании близких знакомств, — с другой. По мнению автора, варьируя предоставляемые Интернетом возможности, человек даже с выраженными проблемами, испытывающий трудности взаимодействия с реальным миром, может за несколько недель создать для себя удобную нишу и эта ниша становится «единственным миром», где его особые потребности реализуются стабильно и безопасно [60]. Терапевтический потенциал Интернет- форумов исследует Н.Д.Чеботарева [209], игр (а именно, игр-квестов) — Е. Ю. Зубарев [94].
Одним из аспектов рассмотрения проблемы влияния Интернета является проблема динамики коммуникативных и личностных показателей в связи со стажем использования Сети. Одним из широко распространенных обыденных представлений является мнение о том, что сетевые долгожители деградируют по ряду важнейших параметров психологического (и даже психического) здоровья. Косвенным выражением влиятельности таких представлений является тот факт, что зачастую выводы в работах, посвященных исследованию данного вопроса, строятся как констатация отсутствия искомого эффекта (например: «значимых корреляций проблематичного использования Интернета с опытом работы в Интернете не выявлено» [63]; «не подтверждают представления о том, что длительное участие в ролевых играх ведет к размыванию границ между оп-Ипе и реальным миром, в частности, к переносу в реальную жизнь поведения, которое здесь расценивается как криминальное; нет доказательств большей отчужденности игроков» [4-721; «широко представленное в обыденном сознании мнение об однозначно негативном воздействии информационных технологий на личностное развитие не имеет адекватного эмпирического обоснования» [14]).
Е. Г. Носова провела внесетевое исследование влияния Интернета на особенности коммуникации. Испытуемыми стали студенты 20-25 лет, разделенные на общающихся посредством Интернета (экспериментальная группа, 48 чел.) и не общающихся с его помощью (контрольная группа, 30 чел.). В экспериментальной группе были выделены три подгруппы по стажу виртуального общения: первая — до 1 г., вторая — от 1 г. до 3 лет, третья — больше 3 лет. Применялись: методика В. Н. Ку- нициной (СУМО), методика диагностики социалыю-нсихологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (СПА); авторская анкета, направленная на выявление демографических характеристик и характеристик общения в Интернете (частота, предпочитаемое средство, стаж и характер общения в Сети). Выявлено, что с увеличением стажа общения в Сети растет количество испытуемых, посещающих Интернет ежедневно, при этом предпочтение отдается моно- и диалогичным формам общения (электронная почта и 1С<3); с приобретением опыта люди начинают использовать Интернет не только для развлечения или общения с друзьями, но и в деловых целях. По результатам исследования автор делает общий вывод об отсутствии негативного влияния Интернет-общения на способность успешного осуществления реального общения. Выявлены некоторые особенности, характерные для экспериментальной группы в отличие от контрольной (общающиеся в Сети больше стремятся к доминированию, у них выше показатели чувствительности и некоммуникативности и ниже показатели по партнерскому стилю общения и экспрессии), а также для отдельных групп, различающихся по стажу опосредованной Интернетом коммуникации. Испытуемые первой подгруппы демонстрируют высокие показатели по шкале «манипулятивный стиль общения», у них в отличие от двух других подгрупп нет низких показателей по шкале «навыки общения». Среди представителей второй подгруппы много застенчивых людей; у них низкие показатели по шкале «аутистичность»; они больше других стремятся к доминированию и меньше других склонны к раскрытию и экспрессивному поведению. Третья подгруппа характеризуется преобладанием авторитарного стиля общения, отсутствием застенчивых людей, самым низким уровнем отчужденности и высокой степенью раскрытия. К общей тенденции относится выявленная связь между стажем и вероятностью снижения невербальной активности 9) [151].
А. А. Сакбаев выявил, что с увеличением игрового опыта локус контроля сдвигается в интернальную область [181]. Сравнение новичков
Данный факт, очевидно, можно интерпретировать не только как проявление эффекта Интернет-коммуникации, но и в обратную сторону — субъекты с высокими показателями невербальной активности общаются в иных форматах, а к Интернету могут проявлять ситуативный, быстро иссякающий интерес — Ю. К., Н. Ч.
со стажем менее 6 месяцев и «ветеранов», общающихся в Сети более трех лет, показало повышение удовлетворенности от общения, что связывается с развитием навыков получения социальной поддержки [382]. Восприятие Сети как источника эмоциональной поддержки зависит от опыта пользования Интернетом: чем больше у человека стаж, тем в большей степени он воспринимает Сеть как источник эмоциональной поддержки, помощи в трудную минуту [209]. Проявлением повышения эмоциональности общения в связи со стажем сетевого общения является увеличение количества смайликов, сопровождающих послания. Чем дольше человек в Сети, тем чаще он их употребляет; у старожилов смайликом снабжено едва ли не каждое предложение, что создает своеобразные барьеры понимания для новичков и поэтому служит одним из средств социальной стратификации в сетевых сообществах [147].
Специфика общения в Интернете определяет своеобразие сетевой социальной жизни. В частности, исследуя необоснованную вербальную агрессию в Сети, или флейм, Ф. О. Смирнов указывает, что к нему прибегают люди, которые в реальной действительности никогда не смогли бы позволить себе такое вербальное взаимодействие. Ругань в Сети дает им повод считать себя героями, манифестирующими свободное общение, и в этом отношении наличие Интернет-общения можно считать фактором, ослабляющим социальный контроль и даже провоцирующим. С другой стороны, необоснованная вербальная агрессия заставляет сетевое сообщество для предотвращения распада объединиться, чтобы достойно ответить агрессору [186].
К проблемам проявления специфики Сети в социальном плане относится уже упоминавшийся нами феномен «Парадокса Интернета», описанный К. Кгаиг, 8. Кте$1ег, В. Вопеуа е1 а1. Парадокс заключается в том, что социальная технология, разработанная для межличностного общения, может способствовать социальной изоляции и снижению вследствие этого психологического благополучия пользователей. Судя по данным, полученным на выборке из 169 человек со стажем пребывания в Сети от одного до двух лет, использование Интернета оказалось связанным с усилением одиночества и депрессии и тенденцией усиления стресса. Исследователи объясняли этот парадокс тем, что поверхностные отношения (слабая связь), формирующиеся в Интернете, вытесняют глубоки г? отношения в реальном мире (сильная связь) [377].
При исследовании «Парадокса Интернета» выявлена причинная связь между использованием Интернета и депрессией, но допускалось, что она может быть специфична для новичков [378]. Я. ЬаЯохе, М. 8. ЕазНп, ]. Сге§ё показали, что такая связь опосредуется силой Я и ожиданиями возможности возникновения в Интернете стрессовых ситуаций. Кроме того, показано, что использование Интернета для обмена письмами, если эта деятельность связывается с получением социальной поддержки, способствует снижению депрессии. Противоречивость получаемых данных может объясняться действием фактора длительности стажа Интер- г
нет-общения (качество общения со стажем возрастает), а также тем, что испытуемые, которые имеют более низкие показатели депрессивности, нуждаются в социальной поддержке относительно меньше, нежели люди с выраженной депрессией или стрессом, для которых сетевые связи оказываются более полезны [382].
Данные многих работ свидетельствуют о том, что сетевые отношения скорее дополняют, нежели замещают реальные; сами отношения он-лайн могут быть вполне близкими и сильным и не только ослаблять, но и усиливать реальные, зачастую продолжаясь вних[286,313,366,415,416,513,526]. Эмоциональная вовлеченность в обсуждаемую тему преодолевает чисто «интеллектуальную» сущность медиума — компьютера, — и люди устанавливают эмоциональные отношения, влюбляются, ссорятся, радуются и переживают. Воображение заполняет пустоты, оставленные ощущениями [162]. По сообщению М.Сокольской (Сутула), «виртуальные романы», которые развиваются в электронной переписке, могут длиться по году и больше и завершаться помолвками и свадьбами — как вполне виртуальными, так и вполне реальными; даже церковнослужители совершают брачную церемонию и в обычной церкви, и посредством Интернета в реальном времени [190].
Близкие эмоциональные контакты в Сети не только возможны, но и довольно распространенны и не то что с каждым годом, а с каждым месяцем количество вовлеченных в них людей увеличивается, — утверждает В. Нестеров. Расширение круга эмоционально окрашенного общения имеет терапевтический эффект, и в отличие от большинства других механизмов социальной компенсации «эмоциональной недостаточности» виртуальное общение дает человеку не суррогат эмоций, а подлинные эмоции, чувства и переживания. Бесспорно, новизна этого явления привносит тревожность — «что же со мной происходит?», однако переход виртуальных контактов в разряд обыденных вещей — вопрос времени. Кроме того, что жизнь человека становится эмоционально насыщеннее, участниками виртуальных коммуникаций (особенно молодежью) «малой кровью» приобретается жизненный опыт. Причем этот опыт усваивается в концентрированном виде, приобретение же подобного опыта в реальной жизни сопряжено с большими, нежели в виртуальности, сложностями. Многие участники виртуальных коммуникаций отмечают, что опыт, приобретенный в Сети, в частности, опыт общения с противоположным полом, оказался им очень полезным в реальной жизни [145].
Нам хотелось бы обозначить еще один «парадокс Интернета», имеющий социальную природу: по знаменательному выражению авторов статьи «Интернет — рождение новой реальности», зачастую и положительный эффект «виртуальности» может вызвать негативную реакцию в реальном мире [104]. Действительно, психологически правдоподобным представляется тот факт, что изменения, происходящие в ходе опосредованной Интернетом деятельности, могут вызывать у реального окружения человека реакцию отвержения вне зависимости от характера изменений. Теряя привилегию единственной среды общения, а зачастую — и возможность контролировать поведенческие, когнитивные и эмоциональные проявления, окружающие интернетчика люди, разумеется, могут испытывать дискомфорт настолько сильный, что искажающий эффект порождаемого им напряжения оказывается достаточным для игнорирования имеющихся достижений и усиления реальных или мнимых проблем. Тем более, если заинтересованные люди — это родители или учителя, а «уходящий в виртуальную реальность» — ребенок или ученик. Похожую позицию занимает, например, Н. Н. Нарицын, говоря о том, что все компьюте- рофобии взрослых чаще всего основаны на боязни почувствовать себя глупыми перед собственными детьми [141]. Нам кажется важным учитывать такое положение при анализе оценок, которые дают личностно вовлеченные в отношения с пользователями Интернета происходящему на недоступной им территории и без их ведома.
Возвращаясь к проблеме сетевой аддикции как высшей степени негативного влияния Интернета на личность, выражающегося в ослаблении и утрате дружеских и семейных связей, крахе профессиональной карьеры, можно отметить совпадение этих признаков с тремя «жизненно важными вопросами» А. Адлера, из которых выводятся все человеческие проблемы: вопросы об отношении одного человека к другому (дружбы, товарищества, общности); о профессии (способе быть полезным); о любви [2, с. 32-36]. Признаки «неправильною» сетевого поведения и его негативного влияния свидетельствуют о неудаче в решении адлеровских «вопросов»; однако это так, если считать, что единственной общностью является реальное окружение, быть профессионалом можно только вне Сети, а те чувства, которые испытывают по отношению друг к другу партнеры, встречающиеся в Интернете, субъективно не являются любовью. Однако, с одной стороны, реальная эмоциональная насыщенность опосредованной Интернетом деятельности не позволяет считать, что пребывание в Сети однозначно ведет к редукции чувственной стороны жизни. С другой стороны, возникает вопрос об «истинности» «реальных» отношений: В. \Уе11тап, М.ОиНа считают, что приписывание негативного значения интернетному общению может быть следствием идеализации «реального» социального взаимодействия, хотя в нем также формируются поверхностные отношения [513].
Еще один аспект относительности оценок влияния Интернета отмечает Ь. Кеес1: определение границ «правильного» отношения к компьютерам и Интернету должно проводиться в историческом контексте, в связи с социальными и политическими реалиями эпохи. Данный вопрос следует обсуждать, учитывая, что социальные представления отражают систему социального контроля, следовательно, помимо собственно «технических», «медицинских» или «личностных» аспектов, он затрагивает выработанные в культуре способы отношения к реальности и устоявшиеся мнения, требующие поддержания в целях обеспечения культурной целостности. Те формы поведения или чувствования, которые выходят за рамки принятых в культуре, подвергаются давлению, формой которого может быть «медихализация» описания [437]. Об аналогичном процессе формирования «фактически психиатрической формы самосознания» как средстве социального контроля над личностной самобытностью писал и Э. Эрик- сон [224, с. 263].
Примером апелляции к культурному контексту при объяснении эффектов внедрения Интернета в повседневную жизнь является модель О. N. ОгеепйеЮ. До трети принимавших в его исследовании респондентов, по их собственной оценке, используют Интернет как средство бегства от реальности. Такое использование высоких технологий, — полагает О. N. Сгеепйе1б, — определяется господствующим в западном обществе представлением о том, что чувствовать себя плохо — «не культурно», социум не признает права человека на боль, скуку или растерянность. Так как при этом в культуре утрачены способы самопомощи, то возникает необходимость отделения от собственного травматического опыта, одним из способов чего как раз и являются разного рода зависимости. Парадоксальным образом общество, требующее постоянного благополучия, стимулирует формирование зависимого поведения, — делает вывод автор [303].
Итак, подходя к концу нашего обзора, за рамками которого, разумеется, осталось огромное количество теоретических и эмпирических исследований роли Интернета в жизни наших современников, мы вынуждены сказать, что знакомство с литературой оставляет ощущение противоречивости. На любое утверждение можно найти опровержение, каждому аргументу — контраргумент. Представляется, что продуктивной для выхода из создавшегося тупика будет попытка сбросить с себя очарование новизны, динамики, контрастности с привычными для человечества средствами, которыми поражает Сеть, и вернуться на собственно психологическую позицию, сущность которой заключается в выделении в качестве предмета научного рассмотрения субъективного отражения реальности. Такая позиция позволяет, как нам кажется, объяснять, почему в разных случаях мы наблюдаем противоположные эффекты, а разные психологические последствия информатизации могут и нейтрализовать, и усиливать друг друга [14]. Рассмотрим в качестве примеров работ, в которых прослеживается обозначенный подход (в обосновании или выводах исследования).
8.1Л2 установила, что показатели социализированности игроков М1Ю влияют на способность устанавливать дружеские связи незначительно, а определяющим оказывается влияние скептического отношения к общению в Сети [501].
А. Е. Жичкина в ряде исследований показала, что, вследствие невозможности применения в виртуальном общении привычных межгрупповых механизмов социального восприятия (физиогномическая редукция, стереотипизация, ингрупповой фаворитизм и каузальная атрибуция) у пользователей может возникать дискомфорт. Однако такая реакция опосредуется качеством социальной идентичности пользователя: дискомфорт не выявляется у тех, чья собственная социальная идентичность не является «выпуклой», и возникает, если она «выпуклая» (что проявляется в чувствительности к социальным нормам и стремлении ориентироваться на них) [86]. Кроме того, чем большее значение в самокатегоризации имеет социальная идентичность, тем ниже активность пользователей в Интернете, а качество активности, в свою очередь, опосредует отношение пользователей к определенным параметрам сетевой жизни (например, «активные» респонденты хотели бы быть менее любознательными, общительными и раскованными, защищая тем самым себя от информационной безграничности среды [84]).
Т. П. Зайченко и Д. В. Чумакова по результатам проведенного исследования приходят к выводу о том, что имеется обусловленность виртуальных контактов коммуникативными способностями участников: их коммуникативностью, потребностью в общении и познании, развитостью коммуникативного контроля, гендерной принадлежностью. Так, к общению в Сети более склонны общительные девушки с высоким коммуникативным контролем. Для них Интернет является еще одним местом, где они могут реализовать свою высокую общительность. В то же время к длительному виртуальному общению обращаются юноши с низким уровнем развития коммуникативных навыков, испытывающие затруднения в контактах в реальном мире. Кроме того, при перенесении знакомств в реальный мир у девушек чаще встречается несоответствие ожидаемого и реального партнера по общению, наблюдается снижение их интереса к партнеру; у юношей проявляется тенденция приобретения друзей в виртуальном мире для последующего переноса образующихся связей в реальность, то есть перехода от виртуального к непосредственному личному общению [91].
По определению В. Гудимова, сетевая игра представляет собой неустойчивое равновесие между интеллектуальным развитием и эмоциональным сгоранием. Пока игрок сосредоточен на игре, он развивается. Как только он сосредотачивается на себе и пропускает в игру свою личность, он сгорает [65]. Степень значимости и влияние факторов формирования сетевого гэмблинга, — отмечает А. Г. Макалатия, в конкретном случае связаны с личностными особенностями игрока [133].
Анализируя данные исследований влияния Интернет-коммуникации на личность, Е. П. Белинская приходит к выводу о том, что эффект определяется не опытом общения как такового, а характером осознания личных целей, которым удовлетворяет компьютерно-опосредованное общение [20].
В общем виде направленность влияния Интернета определяется такими психологическими факторами, как мотивация, цели и условия деятельности субъекта, а сама по себе деятельность, опосредованная новыми информационными технологиями, не отличается от иных видов деятельности, в ходе которых возможны как позитивные, так и негативные трансформации личности [14]
Выделим важные для дальнейшего рассказа положения:
1. В современных исследованиях обоснован подход к Интернету как культуре, обладающей целостностью и самобытностью. Вследствие этого адекватным методом изучения феноменов, возникающих в сетевой среде, должен быть признан не сравнительный, а описательный, подразумевающий наличие самостоятельной ценности присущих сетевой культуре атрибутов.
2. Следовательно, и изучение особенностей носителей сетевой культуры должно быть построено как описание, а не сравнение. Объяснение получаемых данных следует давать исходя из характера внутрисете- вых условий и возможностей, а не из того, как эта деятельность (или жизнь) сочетается с внесетевой деятельностью (жизнью), конкурируют ли эти реальности либо дополняют друг друга.
3. При психологическом исследовании сетевых жителей важно последовательно придерживаться принципа субъектности, поскольку он позволяет объяснять противоречивые данные об эффектах жизни в Сети. Практически данное соображение должно реализовываться в планировании исследования: в качестве зависимых переменных должны выступать не объективные (связанные с предметными параметрами — время, частота, форма использования), а субъективные (связанные с местом опосредованной Интернетом деятельности в личностных и мотивационных структурах пользователей) характеристики.
Интернет как новая культура
Число работ, посвященных Сети, ее влиянию на психику человека и на общество в целом, огромно, тем не менее остается открытым вопрос о месте, которое может занять Интернет в культуре.
«Попытка понять смысл Интернета изолированно, вне пространства культуры, ограничивает понимание его потенциальных возможностей» [193]. «Существование виртуальной реальности предполагает формирование принципиально новой для европейской культуры парадигмы мышления, позволяющей схватывать сложность устройства мира» [177[. Возможно даже представление о том, что человечество стоит на пороге возникновения новой цивилизации, которая в перспективе станет преемником современного миропорядка (например, [312,523,536]).
3.1. Развитие сетевой культуры
В развитии киберкультуры.1. Масек [392] выделяет две эпохи — ранняя и современная, — различаемые по тому, в каком отношении кибер- культура находится к лидирующим тенденциям социальной и культурной жизни глобального общества. С 1960-х, момента своего возникновения, и до начала 1990-х, киберкультура находилась в оппозиции; автор описывает четыре этапа эволюции ранней киберкультуры. Со второй половины 1990-х она сама становится лидирующим явлением собственно культуры. К 2005 г., по мнению.1. Масек, отношение между «культурой вообще» и «киберкультурой» преобразовались, но адаптироваться пришлось не первой, а второй. Ценности и ожидания, связываемые с киберкультурой и развитием высоких технологий, были приспособлены к мнению большинства и стали частью повседневной политической и экономической идеологии, играя в современном мире организующую роль в построении новой мировой иерархии [392].
Интернет как семиосфера
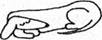
|
К концу 1990-х годов проявились те свойства самого Интернета и специфики его функционирования в нашем обществе, которые позволяют определять его культурный статус как семиосферу. По Ю. М. Лотману [130] семиосфера — это синхронное семиотическое пространство, заполняющее границы культуры и работающее как целостный механизм. Семиосфера описывается рядом параметров. Охарактеризуем Интернет по каждому из них.
Семиосфера должна обладать отчетливо выраженной границей — так, чтобы все структуры и объекты, принадлежащие ей, находились внутри сферы, а сама граница работала как мембрана, пропуская «своих» и отсеивая «чужих». Граница Интернета хорошо артикулирована в техническом плане и доступ осуществляется при помощи логина и пароля. Эти формальные признаки, позволяющие «держать границу на замке», имеют и ярко выраженную, хотя и весьма неоднозначную семантическую окраску. Интернет — пространство существования людей не хронически бедных, обладающих определенными знаниями и некоторыми социальными запросами. Доступ к Интернету позволяет человеку чувствовать себя «современным», т. е. человеком, обладающим независимостью, активностью, интеллектом и открытостью. Существование пароля вносит дополнительные ассоциации: тайная организация и заговорщики, государственная тайна и спецслужбы, военная тайна и часовой на посту... К тому же пароль часто представляет собой индивидуальный номерной знак, что отсылает к идее деперсонализации полицейско-административного толка. В то же время, постоянный участник Интернет-тусовок обычно обзаводится новым именем — ником, что маркирует его статус «посвященного», т. е. приобщенного к новой идее и получившего новую — «истинную» — жизнь. Итак, на границе возникают образы двух миров: один — замкнутый, навязывающий собственные правила и деперсонализирующий, а другой — открытый, свободный и дающий человеку возможность личностного развития. Какая часть мира оказывается для человека окрашенной в светлые тона — обыденная реальность или Интернет-реальность — определяется тем, которую из них он называет «своей». На границе двух миров живут и особые разбойники — те, кто может осуществлять насильственный и тайный «вынос» из одного мира в другой. Поэтому многие владельцы сайтов и гос.службы стремятся обзавестись «своим хакером», подобно тому как в Киевской Руси прикармливали приграничных кочевников («свои поганые»).
Второй параметр, по которому описывается семиосфера — это неоднородность языков, заполняющих семиотическое пространство. Языки Интернета — естественные языки, включая русский, английский, жаргон, язык символических жестов — смайликов, язык дизайна и т. д. — все эти языки в большей или меньшей степени взаимопереводимы и имеют как разное время обращения и обновления кодов, так и различную выразительную силу и широту применения. Принципиально важным для существования Интернета как явления культуры представляется наличие двух типов языков — символьного и образного. До тех пор, пока компьютерная среда позволяла оперировать только «словами», она оставалась лишь средой профессиональных навыков (программистских или пользовательских) [170]. С появлением иконических текстов, по определению не пол ностью переводимых в словесные тексты, возникла конституирующая для семиосферы способность компьютерной среды к смыслопорождению.
Следующий параметр — это взаимодополнительная работа двух типов времени и, соответственно, двух типов сюжетов в рамках единого семиотического пространства. Мифологический сюжет, лежащий в основе семиосферы и базирующийся на циклическом времени, выделяет элементы, стабильно закрепленные в семиотическом пространстве, и героя, обладающего большими степенями свободы. Выделяемая Ю. М. Лотманом элементарная последовательность событий в мифе — вхождение в закрытое пространство и выхождение из него — это в Интернете «хождение по сайтам»: попадание в закрытое пространство расценивается мифом как временная смерть с последующим воскресением, но уже в новом облике, с новыми знаниями и возможностями, а погружение в Интернет-реаль- ность устойчиво регистрируется на уровне индивидуального сознания как «выпадение из реальности», «отключение» с последующим «возвращением к реальности» с «вытащенной с сайта» информацией.
Что же позволяет Интернет-среде обеспечивать актуализацию мифологического уровня мироощущения? На наш взгляд это обусловлено некоторым структурным сходством мифа и Интернета. Как подчеркивают все исследователи мифа [135, 201, 223] роли в мифе взаимно дополняют друг друга, составляя нерасторжимое целое: охотник и жертва, победитель и побежденный, поедающий и поедаемый оказываются тождественны друг другу. То же самое мы наблюдаем в Интернет-среде. Интернет обеспечивает возможность человеку почувствовать себя и наблюдателем, и участником событий, причем исполнять эти роли не последовательно, а одновременно. Начало этому было положено еще компьютерными играми и симуляторами, которые покончили с разделением людей на выигравших и проигравших, учителей и учеников, игроков и болельщиков. Интернет соединил читателя и писателя, творца и потребителя. К этому добавляется возможность наблюдать события в реальном масштабе времени. Таким образом, благодаря Интернету человек становится со-участником и возвращается к ощущению собственного универсализма и переживанию партиципации. »
В Интернет-перемещениях существует, однако, и линейное время и связанные с ним сюжеты. Если циклические мифологические тексты фиксируют все то, что является постоянным и закономерно повторяющимся, т. е. описывают нормы и структуры в картине мира, то линейные сюжеты описывают всевозможные аномалии, отклонения от нормы, случайности и новости, т.е. то, что принадлежит не вечности, а настоящему моменту. С точки зрения содержания текстов Интернет с его идей постоянного пополнения и обновления сайтов представляет собой периферию культуры, где существует только «кумулятивная цепочка, организуемая простым присоединением структурно самостоятельных единиц» [130]. Функция периферии — собирать архив эксцессов и дополнять упорядоченную картину мира, наделяющую все происходящее характером закономерности и предсказуемости, представлением о случайности и возможности маловероятных событий. Очевидная дезогранизованность содержаний Интернета, его принципиальная неполнота поддерживают «чудесную» картину мира.
Четвертый параметр семиосферы — это символический характер пространства. Особой символической и эмоциональной значимостью обладает название или имя собственное объекта культуры. В русском языке слово «сеть» может рассматриваться в нескольких ассоциативных рядах: 1. «рыбачья сеть» — «рыбак Петр» — «ловец душ человеческих» — «рождение в истинную жизнь»; 2. «рыбачья сеть» — «Золотая рыбка» — «исполнение желаний»; 3. «ловчья сеть» — «запутаться в сетях»; 4. «паучья сеть» — «биться в паутине» — «высосет все соки». Таким образом, Сеть олицетворяет собой либо новую жизнь, с новым смыслом и расширением возможностей, либо мучительные попытки вырваться из того, что опутывает и медленно убивает. Итак, первое свойство символического пространства Интернета — амбивалентность. Второе — неограниченный размер, поскольку граница существует как бы только с одной стороны, с той, где находится вся остальная жизнь. Третье свойство — мгновенность перемещений, так как формула Ь = з/ь дает 0, поскольку между локусами этого пространства расстояние отсутствует. Эти три особенности позволяют интерпретировать пространство Интернета как пространство фантазии или даже как пространство бессознательного, как это предложено (на иных основаниях) в работе [124].