Однако Джета больше не интересовал никто — его, как магнитом, притягивала дама. Несмотря на строгое, пуританское платье, застегнутое на пуговки под самое горло, она неимоверно возбуждала. Угадываемая под одеждой грудь волновала и заставляла представлять вновь и вновь, что же будет, если содрать с нее платье. Дама улыбалась — со страхом и смятением, словно чувствовала все грязные мыслишки Джета.
Внезапный детский смех, раздавшийся со спины, заставил юношу резко развернуться и попытаться выхватить пистолет. Руки дрожали, а еще это чертово оружие зацепилось за ремень, словно желая остаться там навсегда.
— Поиграй со мной… — Легкий шелест и почти невесомые прикосновения накрыли Джета с головой, и он с яростью задергал дрянную застрявшую пушку. Рывок, еще рывок… Выстрел.
Завыв раненым зверем, Джет упал на пол, только вспомнив, что он не поставил пистолет на предохранитель! Легкий безумный смех — такой, словно смеется ребенок, сошедший с ума и не понимающий, что он уже находится за гранью, пронесся мимо него.
— Ты хочешь играть! — Восторг в юном голосе подстегивал страх, прорезавшийся в Джете вместе с ярким запахом собственной крови и горящей боли в голени.
— Ты кто? — Голос сорвался в петуха, и Джет заоглядывался вокруг, пытаясь понять, во что же он вляпался.
— Ты хочешь играть со мной! — Казалось, некто, кружившийся вокруг юноши почти незаметной полупрозрачной субстанцией, совершенно его не слышал, но ощущал все — от и до.
— Не хочу! — взвыл юноша, отползая к стене, на которой висел портрет.
— А мама сказала, хочешь! — Соткавшийся перед Джетом призрак являлся точной копией одной из девочек на портрете. «Девочка» надула губки и шагнула ближе. — Если бы не хотел, не сделал бы это!
Она требовательно указала на окровавленный след, тянущийся от ноги Джета.
— Нет, не хочу! — Хватая воздух пересушенным ртом, юноша завертел головой, все еще с упорством пытаясь добыть пистолет. Призрак шагнул ближе.
— А мама сказала…
Раздавшийся выстрел заволок помещение полупрозрачной завесой, словно Джет стрелял не из пистолета, а из револьвера времен гражданской, когда все оружие заряжалось дымным порохом.
Когда завеса рассеялась, хватающий ртом воздух Джет увидел двух призраков. Позади девочки, положив ей руки на плечи, возвышалась женщина. Та самая дама с портрета — с таким же скорбным лицом, за которым крылась боль.
— Эмили, иди, поиграй! — Дама подтолкнула девочку, а та, глянув на мать, весело поскакала прочь, напевая странную песенку:
Мис-тер Твизли!
Мис-тер Твизли!
Вокруг ходят гризли!
Мис-тер Твизли!
Мис-тер Твизли!
Вам ногу отгрызли!..
Девочка удалялась, растворяясь в лунном свете, ее звонкий голосок исчезал, а печальная дама приблизилась к Джету, присела рядом и скорбно и неловко улыбнулась, словно она встретила что-то или кого-то, кто причиняет неудобства.
Джет затаил дыхание. Несмотря на боль, постепенно затапливающую ногу, несмотря на страх, желание воспряло со страшной силой до такой степени, что не будь эта дама белесоватым сгустком тумана, он бы ее точно завалил, прямо тут! Джет протянул руку, но она провалилась в белую муть и мгновенно занемела.
Дама стала еще печальнее и наклонилась к нему, прижимаясь губами к губам. Страшный холод, поедающий внутренности, распространялся по телу Джета, а он не мог ничего сделать, поглощенный странной страстью к этой даме, пришедшей неизвестно откуда. Он неистово целовал ее, пока сердце, сжатое ледяным холодом, не дернулось в последний раз и не замерло.
— Ну что там, док? — крикнул молоденький полицейский, приплясывающий от холода около входа на ферму Хеффнера и хлопающий по бокам руками, запрятанными в большие варежки. Еще пара минут, и он оставит пост, назначенный шерифом, и пойдет греться внутрь этой богом проклятой фермы. Как-то около нее было очень холодно, гораздо прохладнее, чем даже на автобусной остановке.
— Сердце остановилось, — равнодушно бросил вышедший из здания коронер и глянул на темное свинцовое небо, из которого, словно из бездонной проруби, с ночи валил снег, заметая все возможные следы.
— Опять наркота? — Полицейский не выдержал и засунул руки под мышки — погреть.
— Не знаю, — пожал плечами коронер и сделал знак санитарам забрать труп. — Мое дело — провести вскрытие. Ваше — разобраться в причинах. Кстати, с чего вы сюда с утра пораньше приехали? — Док закурил сигарету, с равнодушием истинного врача мертвых ожидая, пока труп вынесут и погрузят в перевозку.
— Да девка одна всю ночь названивала, требовала патруль сюда, — полицейский с завистью покосился на сигарету и мысленно чертыхнулся, что ему нельзя. — Некая Энни Морстен. До того задолбала, что шериф послал проверить. И вот — труп.
— Допросили? — Коронер торопливо затянулся и бросил сигарету в только что выпавший снег, затирая ее ногой.
— Пока нет, шериф как раз выехал.
Энни сидела за столом, разглядывая крохотный портрет, лежащий перед ней на столе. Наверное, его даже правильнее было назвать миниатюрой — размером с ладонь, нарисованный яркими красками на фарфоре. Тонкие черты лица, наполненные усталой обреченностью, странно походили на лицо самой Энни — если бы кто-нибудь взял на себя труд к ней приглядеться и сравнить с картиной. С той картиной, которая никогда не висела на стене фермы Хенри Хеффнера и которая теперь лежала перед Энни.
Вздохнув, девушка погладила пальцами лицо дамы. Старый Хенри Хеффнер был лишь одной ступенью мести за поруганную девичью честь. Когда несколько лет назад перед ней появился призрак и поведал всю историю, Энни поначалу подумала, что сошла с ума, и не поверила, а после, захваченная яростью от трагедии, согласилась помочь.
Когда-то давным-давно дед Хенри, Грегори, изнасиловал и силой заставил выйти за себя беззащитную сироту Энни Морстен — прабабушку и полную тезку девушки, которая теперь ничего не видела вокруг, кроме медальона.
Наверное, Энни повезло, ведь, обесчестив, Грегори мог ее бросить умирать, но красота юной девушки сыграла свою роль. Грегори милостиво женился на никому не нужной девке и держал ее в строгости всю жизнь, поколачивая за любую провинность. Однако Энни почему-то не считала подобное милостью. Умирая, она прокляла всех потомков Грегори Хеффнера до пятого колена, пробормотав на смертном одре, что шестого поколения не будет.
Войны, голод, депрессия постепенно уносили жизни детей и внуков Грегори, но никто не заподозрил, что к этому имеет причастность невнятное бормотание Энни перед смертью. Единственным выжившим внуком Грегори был сошедший с ума Хенри. Он убил всех своих потомков от первой жены, кроме старшего сына, служившего в армии, и пропал. Никто ничего не заподозрил. Как никто ничего не заподозрил, когда самолет развалился в воздухе, унося с собой жизни этого солдата и его детей. В живых оставался лишь один член семьи — Николас Брэди по прозвищу «Джет».
Мис-тер Твизли!
Мис-тер Твизли!
Вокруг ходят гризли!
Тонкий голосок, раздавшийся со спины, заставил Энни обернуться с радостной улыбкой, словно она встретила давно и нежно любимую сестренку.
— Здравствуй, Эмили! — Энни раскрыла объятия и попыталась обнять призрак.
Мис-тер Твизли!
Мис-тер Твизли!
Вам ногу отгрызли!
Призрак шаловливо прыгал вокруг, и, когда Энни со смехом сумела поймать его, в ее живот вдруг вонзился ее собственный кухонный нож, за пару часов до этого небрежно брошенный в мойку.
— Эмили… — Энни отняла от живота руки, испачканные красным, и растерянно глянула на девчушку. Та проказливо показала язык и пропела:
Мис-тер Твизли!
Мис-тер Твизли!
Теперь будет склизко!
Девчушка рассмеялась и, взяв за руку неизвестно откуда появившуюся печальную даму, попрыгала по лунному лучу прочь. Дама лишь один раз оглянулась, чтобы встретиться взглядом, в котором не было ни капли торжества, лишь боль, с постепенно стекленеющими глазами Энни — внучки Хенри Хеффнера от его второй жены.
Энни, самый последний оставшийся в живых потомок Грегори Хеффнера, умирала, глядя, как в лунном свете постепенно растворяется призрак ее прапрабабушки, дождавшейся исполнения предсмертного проклятия…
ЖЕРТВА
Владислав сидел в зале, который он уже давно не посещал. Красное вино, рубином горящее в дорогом черненом бокале, являлось лишь антуражем. Он не помнил, когда в последний раз ощущал вкус. Но иногда так приятно просто покрутить кубок в руках, отпить глоток, почувствовать, как тяжелая жидкость перекатывается во рту. Это действия составляли весь спектр ощущений, на которые он был сейчас способен. И еще оставалась память. Он пока еще мог вспомнить вкус любимого вина. Но с каждым годом, с каждой выпитой жизнью память рассеивалась. Какое ощущение от солнечного луча на коже? Какой вкус поцелуя с некогда любимой женой? Он не помнил. Да и не страдал по этому поводу. Просто иногда на Владислава накатывала странная меланхолия. Вот так вот посидеть, почувствовать себя кем-то другим…
Он оглядел заброшенный зал. Некогда он блистал свечами, украшениями кавалеров и дам, хрусталем бокалов, богатой парчой и бархатом. Теперь же освещался лишь полной луной, и единственными его украшениями являлись каменные резные колоны и стены.
Вампир откинулся в кресле и с интересом посмотрел на бокал, как будто только что про него вспомнил.
В зал вошла тоненькая прелестная девушка с длинными белокурыми волосами.
— Владислав, — тихо позвала она вампира. Тот медленно повернул к ней голову. — Владислав, — опустила глаза и затеребила платье. — Пора.
Древний вампир, мастер этих мест на протяжении шестисот последних лет, кивнул и вышел на балкон. Легко вспрыгнув на перила, он рухнул вниз, обращаясь в падении в летучую мышь. Владислав летел за новым птенцом.
Марта проследила взглядом за вампиром, и, легко улыбнувшись, подняла упавший кубок. Наполнив его из бутылки, прячущейся рядом с креслом, она с удовольствием отпила глоток. Вкусно.
Марта являлась магом-некромантом и посвятила свою жизнь изучению вампиров. Девушка не разделяла всеобщего убеждения, что вампиров нельзя подчинить, что ими нельзя управлять. Всю жизнь, с самого детства она полнилась уверенностью, что даже этих высших тварей можно сделать своими слугами. Марта ни с кем не делилась этими идеями, никого не убеждала, не высовывалась. Ей требовались знания и опыт. Она их получила — сначала в академии, потом под чутким руководством лучшего некроманта империи. Эти годы Марта особенно не любила вспоминать, слишком уж специфичны оказались методы обучения. Но зато у нее появился дополнительный стимул побыстрее развить свои идеи.
Теперь ее учитель существовал в не-жизни как один из ее вампиров.
Марта довольно улыбнулась. Самое трудное оказалось приманить именно мастера, но и это ей удалось.
Самое главное в жизни — правильно выбрать жертву. Владиславу не повезло…
Приглашаем на страницы автора:
https://prodaman.ru/likaona/books
https://author.today/u/likaona
https://feisovet.ru/магазин/Lika-Ona/
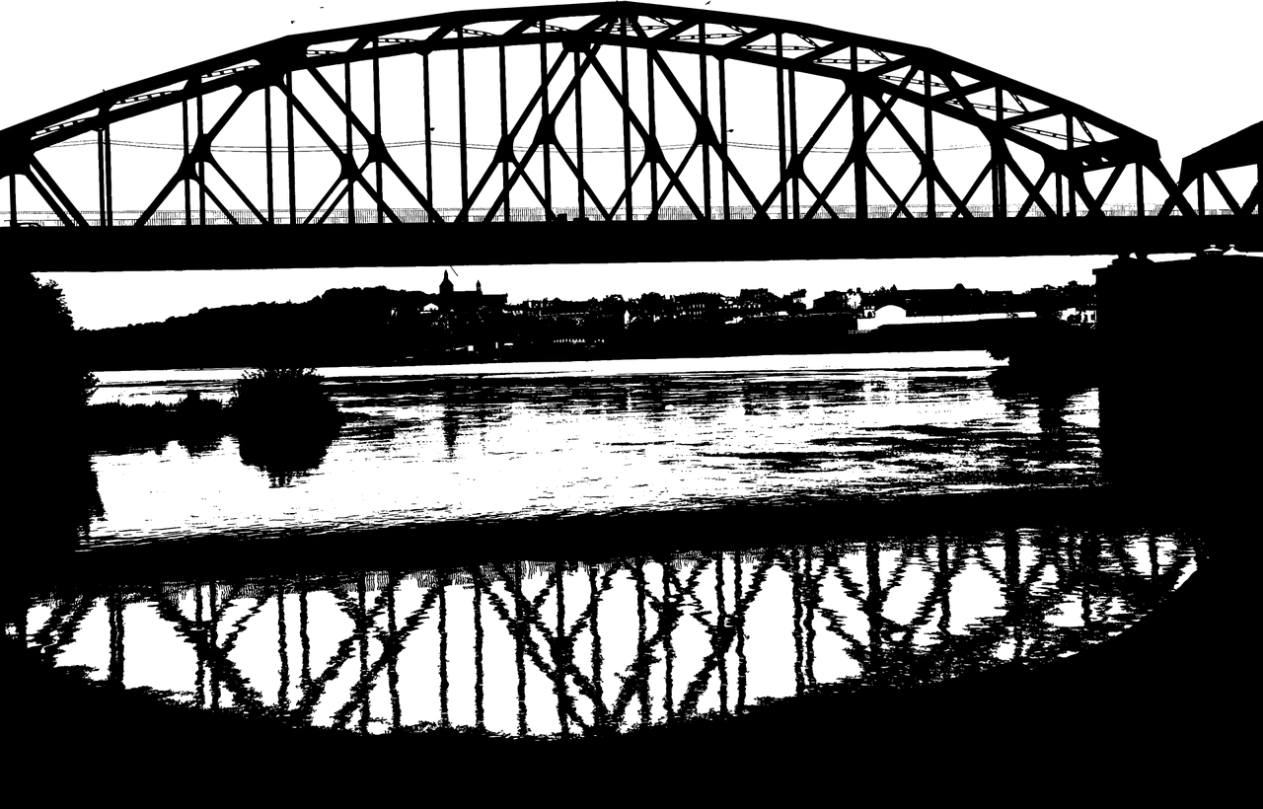
Джон Маверик
С НИМИ МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ
Так получилось, что с подругой у Ицика Шрайнера не заладилось — как всегда, на почве безденежья — и пришлось срочно подыскивать крышу над головой. По той же причине — недорогую. Помыкавшись вдосталь по маклерским конторам и почти отчаявшись, Ицик набрел на однокомнатную квартирку в мансарде двухсемейного дома на самом отшибе. Не хоромы, но внизу — глухонемая хозяйка, на кухне кое-какая мебель — буфет, газовая плита, стол, два стула из ольхи, в спальне шкаф и кровать. Старые, но не ломаные, приличные. Цена — смехотворная. Под окном — скамейка и куст белой садовой герани, воздушный, взбитый, точно крем на бисквитном пирожном.
Да, но вонь. Вяло-тошнотворный, сладковатый запах нестираной одежды, старой пыли, гниющих пищевых остатков с примесью чего-то хищного, звериного, нечеловеческого. Такой обычно скапливается на чердаках, где беспрепятственно размножаются и дохнут крысы, в захламленных подвалах, душных цирковых фургонах и на загаженных блудными кошками свалках-пустырях. Вдобавок — грязь, особенно в спальне. Липкий пол, и на нем непонятного происхождения блестящие дорожки, как будто по линолеуму ползали туда-сюда и крест-накрест крупные слизни или кто-то безалаберный ходил с чашкой сиропа в руке, не замечая, как льется через край. И еще — тараканы. Ицик насчитал целых пять крупных, лоснящихся жуков. Три взобрались по стенке шкафа, один, ленивый и сонный — точно разморенный вечерним солнцем, — прикорнул в углу, рядом с веником, и один валялся кверху лапками на подоконнике. Сушеный.
Ицика нечистый воздух не смутил — можно проветрить, да и пол вымыть не проблема. Тараканов хотел придавить, но побрезговал. Подумал только, что надо бы купить дихлофос. Закинув чемодан под кровать, Ицик распахнул форточку и повесил в шкаф куртку, единственную, зимнюю. Сложил на полке пару теннисок и брюки, ну, и кое-что из белья — а больше у него ничего и не было — и помчался на лекции, проклиная жару и толкотню в автобусе, и зануду профессора с его матанализом, и собственные штиблеты, у которых вот-вот отвалятся каблуки. После института съел пиццу в кафе на углу Михаэля Кейслера и Бен-Эвена. Рассовал по почтовым ящикам пачку рекламных буклетов. Выгулял трех собак. Город — сказка, да ноги из плоти. Один каблук все-таки отвалился, и пришлось тащиться через весь город в мастерскую к старому арабу, который приклеивал что угодно к чему угодно — быстро и намертво, попутно развлекая клиента прибаутками да бородатыми историями времен праматери Агари.
Домой вернулся под вечер, когда водянистый закат, сминая контуры и смягчая оттенки красного, покрывал стены пошловатым розовым глянцем. Дверца шкафа — вся в подозрительных чернильных разводах, слегка приоткрытая — бросала на кровать тонкую тень. Ицик прислонил к стене подушку и сел, откинувшись, как в кресле, но расслабиться не получалось. От съеденной пиццы его подташнивало. Кровь омывала виски жарким шумом, рвалась и билась, точно река о плотину.
«Устал... — подумал Ицик безвольно. — Вот так бегаешь целый день, а толку? Ни тебе денег, ни тебе душевного комфорта. А все же энергетика в этой квартирке странная, поганая, можно сказать. Не помню, чтобы где-то еще меня так плющило. Геомагнитная аномалия, что ли? Или отравился чем?»
Он встал, собираясь в туалет — злосчастная пицца комом давила на желудок — и тут взгляд его упал на стенку шкафа, туда, где шевелилось, вытягивалось и перекатывалось волнами, то распадаясь на крошечные фрагменты, то вновь собираясь воедино, черное пятно. Одно из черных пятен.
— Мамочка... — пробормотал Ицик и попятился прочь от кишащего тараканами шкафа. — Про дихлофос-то я забыл.
Бежать в супермаркет не было сил. Сонливость, дурнота навалились разом, грубо — толкнули на кровать, под одеяло, лицом к стене. Тело мягкое, как пуховик, разлетается перьями, пеной размыливается, легкими волнами расплывается. Ни единой фалангой пальца не пошевелить. Точно в кокон замотало — смрадный, вязкий кокон. Шелковая куколка. Не съедят они его, жуки эти. Не бывало такого, чтобы тараканы человека съели.
Мысли онемели. Как будто что-то чуждое, сливочно-густое, вторгалось в мозг и растекалось по телу, как стук по дереву. Во сне оно говорило с Ициком — неприязненно и свысока — вот только о чем, он не запомнил. Только страх и собственное как будто даже раболепие — точно перед царским троном стоял, коленопреклоненный. Неприятное чувство. Колени словно ватные и болят. От непонятных слов кружится голова.
Проснулся — видения смахнул, как паутину, а боль осталась. Еле на ноги поднялся, а на кухне, как посмотрелся в медно-тусклый кофейник — перепугался не на шутку. Фарфоровая маска вместо лица: щеки опухли, губы бледные, точно свитые из веревок, под глазами огромные синяки. Краше в гроб кладут. За день слегка отпустило, страхи и сны растворились в солнечном желе, в рутинной суматохе. Подруга позвонила на мобильник — не помирились, но поболтали вдосталь. Про квартирку с тараканами он рассказывать постеснялся, намекнул только, что устроился прилично. Хозяйка не заедает. По дороге домой Ицик купил бутыль хлорки и баллончик дихлофоса, твердо решив разделаться сперва-наперво с незваными гостями, а потом устроить генеральную уборку. Глядишь — и геоаномальная зона рассосется. Любые аномалии — от грязи, в доме или в душе, и чем грязнее — тем аномальнее.
За день комната как будто сузилась, и в то же время словно углубилась — обрела дополнительное измерение. Как будто, оставаясь по сути прежней, одновременно отразилась во многих зеркалах. Шкаф потемнел, и не нужно было долго приглядываться, чтобы понять — жуков стало больше. Теперь они покрывали дверцу и обе боковые стенки черным шелестящим ковром.
Тараканы как будто шептали — тихо, с придыханием, словно дуновение ветра в камышах, но Ицик отчетливо разобрал несколько раз повторенное слово: «... пожалеешь... пожалеешь... шшш... шшш... шшваль...» Он стоял с баллончиком в руке, не в силах снять колпачок и направить струю аэрозоля на хамоватых тварей. Хотелось бежать, хлопнуть ключ на стол перед хозяйкой — пусть сама живет в такой компании. Развела нечисть. Но жаль штанов и куртки, затворенных в шкафу — да, куртки особенно. Хорошая, на липучках, ветер не пропускает. О том, чтобы сунуть нос в тараканье гнездо, он не мог и помыслить. Вроде безопасными насекомыми считаются, хоть и мерзкими, но безобидными подбирателями падали и кухонных отбросов, но в уме у Ицика сама собой — точно кто-то ее транслировал — возникала картинка. Умные глаза сочатся паточно-густой злобой. Сильные, острые, как лезвия, челюсти, которым ничего не стоит перекусить сонную артерию. В луче света обрисовался громадный — величиной с блюдце — жук.
— Шшш... — яростно прошипел таракан, словно разогретая плита, на которую плеснули водой, — человечишшшшко... ненавижшшшшшу...
Ицик остолбенел. Дернулась рука, поднимая баллончик, и тут же безвольно повисла. Он увидел, что на черной хитиновой спинке играет вовсе не отраженный луч солнца, как ему сперва почудилось, а сам таракан светится изнутри. Тускло, матово, как лампочка под толстым абажуром.
— Положшшшши... — грозно прошелестел жук, и перепуганный Ицик поспешно кинул баллончик на пол.
— Я не хотел, извини, — пролепетал он, заикаясь, и показал таракану пустые ладони. — Уже выбросил.
— Вот так-то лучшшшше... — неуклюже развернулся и, окатив Ицика спокойным презрением, стал чистить передними лапками усы.
Сразу отлегло, отпустило, словно в приоткрытую форточку затекло немного цветочной прохлады. Ицик облегченно выдохнул. Нечего трусить. С ними можно договориться. Страх сменился легким недоумением — как это так, он, человек, унижается перед букашкой, нет чтобы веником прихлопнуть — но тотчас и недоумение прошло. Вместо него воцарилось понимание. Кто он в самом деле такой, студентик с ветром в кармане, мальчик на побегушках. То выучи, это принеси, с собакой погуляй. Двадцать лет — по чужим углам, да на родительской шее. Одним словом — человечишко, правильно жук сказал. А тот — не рядовое насекомое, по всему видно, а не иначе, как царь тараканий. Так что все правильно.
Пристыженный (на царя да с дихлофосом!), Ицик побрел на кухню. Перекусил хлебом и сладким чаем, и про квартирантов не забыл. Развел в чашке кубик рафинада — до густого сиропа, на блюдо накрошил сыра. Размочил сдобную булку. Сгреб все это на поднос и принес в комнату. Все-таки брезгливость победила — поставил далеко от постели, у окна. Угощайтесь, дорогие, не обессудьте — чем богат, тем и рад.
Лег спокойно, и даже вонь больше не раздражала. Во сне таракан — он представился Ицику, как Олли — казался лучезарнее и крупнее, чем наяву. Выпуклый и мокро блестящий, он хрустел челюстями и наливался солнцем от закрылок до кончиков усов, похожих на два разноцветных световода. Вокруг расстилались болота палеозоя. Высокие перистые хвощи и папоротники смыкались над головой бархатным зеленым шатром. Мягкая прелость. Восхитительно-гнилостные запахи. Благословенное время, когда человеческая мысль еще не развернулась вдаль и вширь и личинкой дремала в горячих недрах земли. Да что там, древние хозяева планеты и помыслить не могли, что двуногие твари когда-нибудь осквернят своим присутствием первозданный рай. Но что-то случилось, стало холодно. Тараканам понадобились пища и укрытие. Тогда-то некоторые из них и додумались использовать людишшшек. Теплые дома. Корм. Зачем еще они нужны? Знайте свое место, людишшшки.
Распростертый ниц перед царственным жуком, Ицик внимал шипению Олли, удивляясь, как все в мире ясно и просто. Совсем не так, как ему представлялось раньше. Величие тараканьей расы, ее мудрость и терпение, вскормленные самой природой — с одной стороны, и легкомыслие людей с их глупыми игрушками — с другой. Он слушал, и тихая гордость, словно подземный ключ, зародившись где-то под сердцем, разливалась в груди, распирала, выплескивалась восхищенным шепотом.
С ним они говорили. Ему открыли свою тайну. Он — избранный из всего недостойного рода человеческого. Надо ли говорить, что наутро баллончик с дихлофосом отправился прямиком в мусорное ведро. С тараканами Ицик условился: они не заползают на постель, под кровать и в тапочки, а он ходит по квартире осторожно, смотрит под ноги, чтобы не дай Бог не придавить кого-нибудь. В шкаф ему соваться запретили — там детский сад, личинки, молодняк. Белые, полупрозрачные жучки, совсем еще мягкие и хрупкие, их легко травмировать. Да, в его белье. Удобно. Ничего, купи себе другие вещи, если не хочешь неприятностей.
— Пожале-ешшшшь, — предупредил Олли, темнея от злости, а Ицика при одной мысли о тараканьей мести прошиб ледяной пот.
Деньги на новую куртку он выпросил у родителей. Стыдно, пришлось оболгать ни в чем не повинную подругу — мол, обиделась и порезала ножницами рукава. На всякие мелочи — сэкономил. Одежду теперь развешивал на спинке кровати — в ногах, а в изголовье ставил дипломат с книгами. Кухню Ицик и его маленькие черные соседи делили на равных. Завтракали вместе, за одним столом. Вернее, Ицик сидел за столом, а они — на столе. Тараканы рылись в мусорном ведре. Нежились в теплом перегное. Падали с полок, глухо стукаясь об эмалированную, в грязных потеках раковину. Любопытные насекомые только в холодильник не забирались — и то потому, что поживиться там было нечем. Ицик не покупал скоропортящихся продуктов, только хлеб, фрукты и овощи, зачем-то выбирая переспелые, с гнильцой. Прелая фруктовая мякоть напоминала ему хвощево-плауновый рай ночных грез. Горько-сладкий, янтарный воздух. Испарения тропических болот, вязкие и тяжелые, дурманящие ум. Долгие беседы с Олли о вечности и космосе. Тараканий помет на плите, на стульях, в буфете. Ицик забыл, когда последний раз убирался в квартире, хотя бы подметал пол. Да и не чувствовал он больше такой потребности.
Неуловимо, как меняет направление морской бриз — только что надувал паруса, и вот они висят блеклыми тряпками — поменялись привычки и вкусы. В студенческом кафе Ицик не садился больше на терраске, где так свежо и заманчиво плескалась небесная синь, что хоть наливай ее в миску и ешь вместе с овсяными хлопьями. Теперь его влекла кухня: ароматы горелого масла, жареной картошки, мяса и кислой капусты, и лопнувших на солнце абрикосов. Взгляд его больше не тянулся ввысь, а припадал к земле, словно гончий пес, вынюхивая каждую козявку. С любой ползучей тварью Ицик ощущал странное духовное родство, и при этом на собратьев умудрялся глядеть свысока. Все, что когда-то нравилось — загорелые ножки в легком флере шелковых платьиц, мягкие предплечья — теперь отвращало. Девичьи руки казались безобразно рыхлыми, бесцветными и вялыми, глаза — выпученными, разговоры — пустыми, одежда — грубой, как труха, и безобразно воняла парфюмом. Людишки.
Промелькнуло лето, за ним — короткая осень. Куст герани под окном поседел и скорчился, побитый жестоким ливнем. Вставать по утрам стало зябко. Из неплотно прикрытой форточки тянуло сквозняком. Тапочки все время терялись, и отвыкшие от холода ступни сводило судорогой от прикосновения к линолеуму, поэтому Ицик положил у кровати подаренный хозяйкой коврик. Пушистый, с длинным ворсом, похожий на весеннюю лужайку в цвету. Этот коврик его и сгубил.
Тараканы, видимо, тоже мерзли, особенно молодые — незакаленные, только вылупившиеся из белых овальных личинок. Некоторые, самые непугливые, по ночам грелись в синтетической траве, а перед рассветом — по приказу Олли — уползали прочь. И вот, случилось так, что один замешкался и спал на краю лужайки, укрытый густым ворсом, и громко хрустнул его хитиновый панцирь под босой ногой Ицика. Треск, пустой хлопок, словно консервную банку раздавили.
Ицик, сам еще сонный, испуганно вскрикнул. Тут же отдернул ступню, но было поздно.
— Я не хотел! Я случайно! Он сам... ведь я же просил... это моя территория...
Дверца шкафа широко распахнулась и оттуда хлынула черная река, живая и блестящая. Захлестнула, сбила с ног, впилась в лицо и шею тысячей раскаленных лезвий, игл и крючков.
Ицика Шрайнера хватились не скоро. Последние пару месяцев он чурался друзей, прогуливал институт, и вообще одному Богу известно, где и почему его носило. Первой забила тревогу подруга. Видно, любила, хоть и безденежного. Поискали здесь и там, наведались в съемную квартирку. Дверь оказалась замкнутой изнутри, но, к счастью, у хозяйки нашелся запасной ключ. Когда открыли — чуть не свалились в обморок, и подруга несчастного студента, и глухая старуха, и двое полицейских. Вонь, грязь, всюду тараканий помет. От самого Ицика ни клочка, ни косточки не осталось. Только куртка, тетрадка по матанализу, да на кухне — кофейник, пара ложек и другие человеческие игрушки.
ВСЕ БОЛЬШЕ ПЛОХИХ НОВОСТЕЙ
Есть такие уголки на свете, которые Бог создал, да и забыл про них, и остались они так же хороши, как в первый день творения. Я человек старый. Самый старый в округе, старше меня был только Петер-булочник, но он уже давно покоится под сенью мраморного ангела с позеленелыми от времени крыльями. Так что вся история здешних мест для меня как на ладони, и кому, как не мне, знать, как мал порой шажок от рая до ада.
Поселок наш так и зовется Egares, что в переводе с французского означает «забытый». Только не спрашивайте меня, при чем тут французы. Франция отсюда настолько далека, что ни один из моих земляков не представляет себе толком, что она такое. Зато земля у нас тучная, будто рождественский гусь, и плодородная настолько, что всякая вкопанная в саду палка через пару дней покрывается листвой, яблони крепкие, а соседи и собаки незлые, и любые споры решаются за кружкой пива, в маленькой кнайпе через дорогу от моего дома. Egares — приветливый, тихий и благополучный поселок, во всяком случае таким он был до того памятного утра, второго октября **** года, когда в нем впервые появилась фрау Цотт.
Она приехала из города на грузовом фургоне, вместе с убогим своим скарбом и сынишкой — длинноруким пацаненком лет семи, худым и апатичным, как зимняя рыба — и стояла у калитки под моросящим дождем, среди баулов и коробок. Ей никто не помогал. Одинокая растерянная женщина в поношенном старомодном пальто и резиновых ботах, не просто тусклая, а бесцветная, точно не раскрашенная картинка, она показалась мне сорокалетней. Только потом я понял, что ошибся лет на десять.
Кирпичный дом по соседству от нас с Хельгой пустовал не первый год, а участок перед ним по колено зарос крапивой и лебедой. Трава пробралась даже на крыльцо — сочные, высокие одуванчики, которые каждое лето забрасывали чужие грядки летучими семенами. Из-за каких-то неведомых подземных процессов фундамент просел и перекосился. Оконные рамы рассохлись, а дверь плохо закрывалась, болталась, словно наспех пришитый рукав. Летними грозовыми ночами она стонала и хлопала на ветру, и нам со старухой чудилось, что это чья-то неприкаянная душа мечется и грустит.
Вот в такой дом вселялась теперь городская фрау с ребенком, но мне и в голову не приходило ее жалеть. Новоселье — не повод для жалости. Я подошел и предложил донести вещи. Фрау бледно улыбнулась, взглянув на меня прозрачными глазами цвета спитого чая, и кивнула. В гулких комнатах пахло сыростью, повсюду валялись перья и голубиный помет. Зато сохранилась кое-какая мебель: резной черного дерева буфет, такие же кровать, тумбочка и платяной шкаф. Все дымчатое, мохнатое от пыли. На кухне — электрическая плитка и разделочный стол.
— Купили? — спросил я и, помедлив, представился. — Хольгер Шмитт.
Она протянула мне влажную ладонь.
— Лаура Цотт. А это — Янек. Сынок, не трогай, пожалуйста, грязь, — возвысила голос, — тут кругом инфекция. У тебя давно не болел живот? Хочешь в больницу?
Мальчик полулежал на тумбочке, опираясь на нее обоими локтями, и выводил пальцем дрожащие буквы — свое имя. От окрика матери он вздрогнул и нервно заморгал.
— Нет, герр Шмитт, снимаем, покупка нам не по карману. Я вдова, живу на пособие, — добавила она не то с горечью, не то с гордостью, и, будто подтверждая свои слова, поставила на буфет черно-белую фотографию в деревянной рамке: — Эрик...
Сквозь мутное стекло на меня вопросительно смотрел лысоватый молодой человек.
— Не ценила я тебя, Эрик, а сейчас — поздно. Если бы все сначала... но нет, не бывает так. Отчего, герр Шмитт, с любимыми тесно, а без них — такая пустота?