Есть два рода чудес, точнее, два разных отношения к ним. Можно воспринимать чудо как нарушение естественных законов жизни. А можно воспринимать как чудо саму жизнь и ее законы. Если на ветках дуба вдруг зацветут розы — это чудо. Но такие чудеса случаются крайне редко, хотя их-то мы больше всего и жаждем, их нам отчаянно не хватает для полноты веры. Однако то, что огромный дуб вырастает из крохотного желудя, в котором уже заключен весь его ствол, и корни, и крона, — это не меньшее чудо, чем розы на дубе. По сути, это даже более поразительное чудо, поскольку оно являет себя в форме правила, а не исключения.
Для подкрепления своей веры мы жаждем чего-то исключительного: телепатии, ясновидения, голосов свыше, явления ангелов, мироточащих икон, нетленных мощей, превращения камня в хлеб или железа в золото… Но ведь и обыкновенный ребенок, со своим вполне определенным характером, являющийся в этот мир неведомо откуда, — чудо; гениальная строка, неведомо кем продиктованная поэту, — чудо; душа, не объяснимая материальным устройством мира, — чудо; человеческая цивилизация, не выводимая из законов природы, — чудо; да и, пожалуй, само бытие, не выводимое из небытия, — чудо. Творение мира из ничего, Большой Взрыв, создавший нашу Вселенную, — чудо из чудес, и научный разум замирает перед этим событием, дальше которого не может проникнуть никакая физика. Вероятно, чудесное ожидает нас и по ту сторону жизни, во всем том, что, приходя неизвестно откуда, уходит неизвестно куда.
Если мы научимся воспринимать эту чудесность правил, чудеса рождения, жизни, человека, мышления, любви, творчества, то нашей вере не нужно будет ждать подкрепления от вторичных чудес-исключений.

Щеку подставлять, но по ней не бить
На Западе большинство, воспитанное в христианском духе (настолько хорошо усвоенном, что уже бессознательном), готово подставлять свою щеку меньшинствам — расовым, этническим, культурным, сексуальным. Обличайте нас, бейте, побеждайте, вы от нас пострадали, вы имеете право на возмездие — комплекс кающегося аристократа или интеллигента, любимца природы или истории, который вдруг решил повиниться перед отверженными, «инакими».
Но отсюда вовсе не следует, что меньшинства имеют право бить по этой щеке и навязывать свою волю большинству. Подставлять свою щеку надо, а бить по чужой щеке не надо. Проблема меньшинств, в том числе иносексуальных, вполне решаема нравственно, если исходить из этого принципа: подставлять, но не бить.
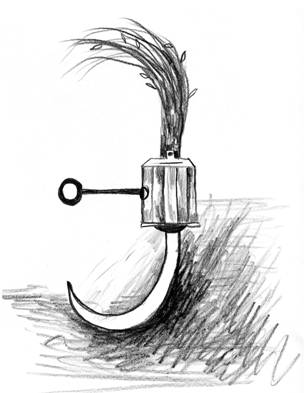
Экзистенциальный народ
Крупнейшие и наиболее «российские» из россиян имели наклонность к самоотрицанию, что удивляет иностранцев. Например, в истории русской философии западных студентов больше всего поражают не те или иные движения, а отношение мыслителей к собственным идеям. Их удивляет, что:
Чаадаев был одновременно отцом и западничества, и славянофильства: в своей «Апологии сумасшедшего» он вывернул наизнанку смысл своего первого «Философического письма» и превознес как залог грядущего величия России ничтожество ее прошедшего и настоящего;
Лев Толстой отрекся от своих великих художественных творений ради мужицкой правды и проповеди опрощения;
Владимир Соловьев в своей предсмертной «Повести об Антихристе» выставил в ироническом и демоническом виде те заветные идеи, которым посвятил свою жизнь пророка-мыслителя: всеединство, универсализм, теократию, объединение церквей.
Этот список самоотрекающихся, круто меняющих свой жизненный путь, «сжигающих то, чему поклонялись», можно продолжить:
Гоголь, вытравляющий из себя художественный дар и «кощунственный» смех и сжигающий свой заветный труд, второй том «Мертвых душ».
Достоевский, который в своих полифонических романах спорит с самим собой, со своими излюбленными идеями, в том числе религиозными.
Розанов, совмещавший в себе юдофила и юдофоба, ревностно писавший за левых и правых, боровшийся с христианством и умерший причастником Христовых тайн.
Блок, поэт и рыцарь Прекрасной Дамы и Вечной Женственности, который впоследствии представил ее в образе блудницы, в «Балаганчике» и «Незнакомке».
Платонов, утопист, коммунист, технофил, который на основе своих идеалов создал глубочайшую антиутопию голого, «беспредметного» общества.
Даниил Андреев, визионер универсального государства-церкви Розы Мира, которая прокладывает путь Антихристу и предвосхищает его царство.
Советские власти в свое время замышляли поворот северных рек на юг, чтобы они орошали азиатские пустыни. Но столь же резко готовы менять русло своих идей русские мыслители. Им было в высшей степени свойственно то, что может быть понято как судьба всей России: сознательный или бессознательный жест иронии, «выкрутас», «передерг», которым уничтожается то, что создавалось веками и десятилетиями напряженного труда, — легкость и решительность расставания со своим прошлым.
России свойственна не только географическая, но и историческая обширность, при отсутствии явно выраженного поступательного движения. Это скорее круговорот, перебор и отбрасывание разных моделей, — невозможность осмысленной цели для этого велико-пустотного существования, экзистенциальный путь из ниоткуда — через всё — в неизвестность. Прогрессивность и пластичность — разные характеристики исторического движения: первое определяет меру развития, второе — размах колебаний. Ни православие, ни соборность, ни коммунизм, ни космизм, ни евразийство не способны исчерпать, выразить и оформить сущность России, потому что эта сущность ставится как задача и в такой постановке всегда удаляется от ищущего. Россия пробует себя в разных исторических жанрах: от анархии до тоталитаризма, от застоя до смуты, от революции до консервации, от крепостничества до капитализма, — но ей важна не столько сущность данного социального строя, сколько сам процесс погони за своим ускользающим «я».
Как есть экзистенциальныe личности, которые ничем определенным не становятся, но постоянно бьются над смыслом своего существования, так есть экзистенциальные народы, которые все время ищут себя, проецируют себя как задачу, как предмет вопрошания. Россия — то, что может или хочет стать Россией, нация-экзистенция.

Юноша-Яноша
«Я» настолько выпирает из юности, что впору переименовать ее в «яность» (я-ность), а юношу в яношу. Я-ноша — это, действительно, тяжкая ноша и для себя, и для окружающих. В отрочестве «я» уже пробуждается от снов детства, уже вступает в горькую распрю с миром, но оно еще пугливое, стыдливое, одинокое, зажатое или загнанное в себя. Хочется ему сочувствовать, опекать, гладить по бедной стриженой головке. А яношу уже не погладишь — он с револьвером. И неважно, стреляет ли этот револьвер пулями, мыслями, словами, в себя или в других, он — оружие.
Яность — это самый угрожающий, террористический возраст, когда силами яноша уже почти равняется со взрослым, а по опыту еще почти подросток. Он уже рвется переделать мир, но еще не приобрел понимания и уважения к реальности. В этом расхождении силы и опыта — исток ювенильной преступности, агрессии против миропорядка. Юность — это надрывная проба себя на «сверхчеловека». Когда читаешь экзальтации Ницше: «почему я так умен», «почему я так силен» и т. д., — то узнаешь это опь-Я-нение задержавшейся юности, перехлестнувшей и за 30, и за 40 лет и в конце концов затопившей его рассудок.

Я как мы
О себе стоит хоть иногда говорить «мы» — как о прихотливом сочетании разных желаний и волений, которые ищут общий язык для переговоров и совместных решений. Имя Бога в Торе тоже выражено множественным числом — Элохим, то есть совокупность божественных сил творения. Бог монотеизма — это Бог богов, Бог над богами. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему…» Не потому ли Бог и говорит о Себе «Мы», что Он многолик, соборен внутри себя? Причем впервые это множественное число звучит именно в эпизоде сотворения человека по образу и подобию «Нас», Создателя. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог…» (Быт.1:28) Бог сотворил в единственном числе небо, землю, сушу, тварей земных, а человеку Он-Они передал/и свою множественность, залог свободного выбора себя.
Одна из самых разработанных современных теорий сознания — «модель множественных набросков» — приходит к тому же выводу. Каждый из нас — председатель ассамблеи, на которой совещаются и принимают решения различные инстанции. «Мы полагаем» — это значит, что разные «я» во мне посоветовались и решили… Демократия начинается с самого себя: насколько я деспотичен или либерален по отношению к своим многочисленным «я». Если я говорю о себе «мы», то это следует понимать не как самопревознесение, «цареподобие», а напротив, как скромное признание множественности себя, демократической зависимости от разных голосов, нейронных связей и мозговых сигналов, одновременно звучащих во мне и борющихся за то, чтобы стать моим «я». Будь к ним щедр, внимателен, терпелив. Будь «мы». Будь «нами».
Я не могу умереть
Собственно, откуда мы знаем, что умрем? Главным образом, из сообщений о смерти других. Статистически смерть — самое вероятное событие в жизни человека. Поскольку все когда-либо жившие умирали, то и меня со стопроцентной вероятностью постигнет та же участь. Не может быть ни одного исключения. Но ведь и я у себя один. От всех других меня отличает то, что я — это я. Тот, кто умирает, всегда другой.
Важно понять: смерть — грамматическая категория третьего лица. Вполне возможно, что для первого лица, для «меня», вообще нет смерти. Умерший — это уже не «я», a «он», что соответствует отчужденному виденью своего тела на операционном столе, как рассказывают прошедшие опыт клинической смерти. «Я» так же не могу умереть, как не могу заглянуть в собственные глаза. Могу — но лишь в своем зеркальном отражении, которое мною, конечно же, не является. Еще меньше являются мною другие люди, в смерти которых я вижу предсказание своего грядущего конца.
У Л. Толстого в «Смерти Ивана Ильича» есть противоречие, которое требует объяснения. Иван Ильич раньше знал о смерти только то, что люди умирают, что человек вообще смертен. Из учебника логики: «Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен». И вот, заболев, он впервые понял, что это ложь, что смерть относится не к какому-то абстрактному Каю, но к нему лично, что это он умрет, тот самый Ванечка, который помнит шелест платья своей матери, знает то, чего никто в мире не знает и не узнает никогда.
Но потом, когда смерть и в самом деле подступает к нему вплотную и он проваливается в темноту, вдруг через какие-то наплывы и барахтанье в черном мешке начинает брезжить свет и оказывается, что именно для него, умирающего, смерти нет. «Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет».
Выходит, что учебник логики, хотя Толстой поначалу старается его опровергнуть, оказался прав. Смерть существует только для Кая, для человека вообще, для всех людей, кроме меня. Для меня, единственного, смерти нет.
Я хотел бы иметь:
детство Набокова, отрочество Толстого, молодость Казановы, зрелость Наполеона…
Но тогда у меня была бы старость шизофреника.
Послесловие. О приключениях мысли
Чего я хочу? В чем моя надежда? — Рассеивать семена слов и понятий там, где они могут пустить корни — в растрескавшейся почве культуры, в зияниях и разрывах языка. Мои мысли не претендуют на системность, но ищут сопряжения с теми фрагментами культуры, где они нужнее всего, чтобы их дополнить, соединить с другими фрагментами. Возможный плод моих усилий — не отдельные законченные произведения, а расширение системы языка, умножение смысловых элементов культуры, которая может принести плоды в будущем, если семена дадут всходы. Я стараюсь мыслить не отдельными понятиями, а целыми направлениями, методами, гроздьями, созвездиями понятий, на том уровне, где кончается одна дисциплина и еще не начинается другая. Меня волнует не переоценка ценностей, но их умножение. Я ничего не ниспровергаю, критик из меня никудышный, мое желание и надежда — чтобы мысль взрывалась мириадами новых смыслов, чтобы мир, творимый мыслью, переходил в кипучее состояние мыслетворения. Как есть разные состояния физического вещества, от твердого до плазменного, — так есть и разные состояния вещества мыслительного. Мне тягостно в твердых, застывших или жидких, вязких мыслительных средах, — меня влечет огненное состояние мысли, звездное вещество. «Ионизировать» мысль, превратить ее в свободное сообщество частиц, отрывающихся от одних атомов и присоединяющихся к другим, — претворить мысль в плазму, чтобы она светилась, как звезда, и давала жизнь новым планетам.
Философ Томас Кун проводит различие между «нормальной наукой», когда ученые применяют устоявшиеся методы к описанию новых, непонятных явлений; и «революционной наукой», когда потрясаются сами основы знания, сменяются господствующие модели, парадигмы. Меня интересует возможность «перманентной революции» в гуманитарных науках — такие формы мышления, которые скользят по кромкам дисциплинарных полей и общепринятых понятий, вызывая недоумение у «нормальных» ученых. Меня волнует не открытый бунт, штурм существующих основ, но момент растущего подозрения, методологическая тревога, разлитая в воздухе науки. «А что это он там делает, этот ‘ненормальный’, не слишком ли близко жмется к границе, не переступает ли порог научности?» Я испытываю волнение именно в этой модально-колебательной зоне возможного побега, неповиновения, когда предельно напрягается концептуальное поле, усиливается момент неопределенности. Один резкий шаг — и начнется истерика или отстрел, но я стараюсь двигаться плавно, растягивая поле академичности, а не разрушая его границы. Я хотел бы длить эту ситуацию «потенциальной угрозы», а не разрешать ее однозначно как революционер или конформист.
Я не люблю эпатажа, скандала, интеллектуального терроризма (как и политического или житейского). Я люблю медленное, но решительное изменение предмета, идеи, парадигмы, когда у внимательного читателя или слушателя глаза начинают округляться от изумления. Что это: лаборатория современной мысли? Или клиника сумасшедших изобретателей? «Все должно происходить медленно и неправильно», — говорил Венедикт Ерофеев. Я люблю постепенность и настойчивость отклонения от прямой. Не люблю детективов и криминальных историй. Люблю мистификации и тайные общества, рассадники новых умственных вирусов.
Меня не привлекает создание всеобъемлющей метафизики ab ovo. То, что уже сотворено Богом и человечеством, полному осмыслению не поддается, можно только вступить в процесс (со) творения на своем маленьком историческом отрезке — как впрыгивают на ходу в движущийся поезд. Иными словами, фундаментом моей «не-системы» является вся ноосфера (и лингвосфера) в том виде, в каком она сложилась до меня. Я принимаю ее как данное и должное — и начинаю вместе с ней двигаться дальше, стараясь по мере сил ее «раскрутить», умножить ее обороты, увеличить степени ее свободы и саморефлексии.
Мои тексты могут сначала привлекать (новизна понятий и терминов), потом отталкивать (произвольность допущений, амбициозность выводов, чрезмерность обобщений), затем снова притягивать (рискованность, смесь строгих доводов и неожиданных выводов). Для меня каждая работа — это попытка поставить под вопрос сами основания того или иного метода, системы понятий. Меня интересует не столько материал исследования, сколько его новое видение, сдвиг в способе восприятия. Поэтому я почти никогда не возвращаюсь к темам своих прошлых работ, хотя к этому, казалось бы, располагает принцип экономии мышления и усилий. Ведь я уже затратил массу времени на изучение данного материала, и было бы рационально использовать его для построения новых моделей. Но именно рациональность и экономность убивают во мне вкус к разработке уже знакомых тем. Как только возникает симптом привыкания, автоматизации, я тут же ищу поворот к неизвестному, чтобы продолжать приключения мысли.
У Леонида Аронзона есть стихи (1969), созвучные
моему кредо:
Я стою перед тобою,
как лежал бы на вершине
той горы, где голубое
тихо делается синим.
Что счастливее, чем садом
быть в саду и утром — утром,
и какая это радость
день и вечность перепутать.
Голубое делать синим, искать предельной смысловой насыщенности вещей, того райского состояния бытия, где мысль о саде сама становится садом, — именно к этому я и стремлюсь.