Страшнее ругательства у матери нет. И за ним, как обычно, следует подзатыльник – уже ни за что другое, только за сходство с отцом.
Отца своего, бросившего их еще до войны, Никита почти и не помнит. Однако, что похож на него, знает не только от матери.
Раньше в комнате над комодом висел отцов портрет. Теперь он лежит на самом дне сундука. В тот портрет Никита мог бы смотреться почти как в зеркало. То же квадратное, будто топором тесаное лицо. Те же светлые, с прищуром, сверлящие глаза. Такие же серебристо-белые непослушные волосы. И широкие, будто нарисованные, черные брови.
С возрастом Никита все сильней становится похожим на отца и фигурой: крутоплечий, присадистый, мешковатый, ноги большие, ладони – лопатами. Он кажется старше своих тринадцати лет, крупнее сверстников, хотя и не выше их. Из-за сходства с отцом Никите чаще, чем могло бы, перепадает от матери. И он покорно терпит: пусть уж лучше на нем зло сорвет, а то Бориска с Женькой еще больно малы.
Не переча матери и не оправдываясь больше, Никита послушно берет ведра и идет на речку. Но сначала несет воду не в дом, а туда, в баньку. Никита отчетливо видит крупные черные завитки на папахе горца и совсем мелконькие – на его широкоплечей бурке. И все звучит в ушах непривычный гортанный голос – тихий, печальный и по-детски доверчивый:
– Здравствуйте, люди добрые!
ПОСТОЯЛЕЦ
- А вот и Митек пришел! – радость в голосе матери враз согревает озябшего Митяя. Ему ужасно хочется, как маленькому, с разбегу повиснуть у нее на шее, прижаться к ней и, может быть, громко заплакать. Но вместо этого он говорит как можно строже:
- Опять в потемках штопаешь, глаза портишь! Чего лампу-то не зажигаешь?
- Да ведь у окошечка я, сынок, пригляделась, все вроде видно, – оправдывается мать. – А чего же зря керосин жечь?
Она откладывает штопку, поднимается со своего любимого плетеного стула.
– Ой, а и правда, уж стемнело! Давай-ка скорей умывайся, ужинать будем.
– А чего приготовила? – Митяй нетерпеливо поглядывает на почти остывшую плиту.
– Да свекольничек сварила, – бодро отвечает мать, – свекольничек. Он полезный, сынок, – добавляет она, – там 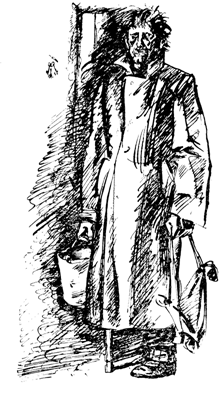 витамины.
витамины.
Митяй старается скрыть свое разочарование. «Витамины»! Да осточертели ему эти самые витамины! Каждый день одно и то же – булька эта красная. Его уж воротит от свекольного запаха. Однако вслух он этого не говорит. Наскоро ополаскивает руки под звонким умывальником и спешит к столу.
– Мам, ну чего ты? Наливай! Давай лампу зажгу я.
– Ой, сынок, только ты уж осторожненько! – не сразу уступает мать. – Стекло, сам знаешь, как достать...
– Да знаю, не бойся! Постараюсь!
Митяй даже дышать перестает, как только прикасается к лампе. Медленно-медленно, будто это бог весть какая тяжесть, снимает стекло, бережно укладывает его на заранее приготовленную тряпицу, проверяет, хорошо ли оно лежит, и только тогда снова начинает дышать.
Из вороха лучин на полу Митяй выбирает одну подлинней и потоньше и, открыв дверцу, одним концом сует в прогоревшую печь. Приложив конец лучинки к угольку, он начинает тихонько дуть на него, будто стараясь согреть своим дыханием.
– Не раздуть уж, сынок, – говорит ему мать, – загасло там. Спичку изведи.
Однако отступать не в характере Митяя, и он упрямо все дует и дует на уголек, пока, наконец, не родилось пламя. Маленький слабый язычок.
Митяй хочет понять, как это из крошечной искорки вырастает живой пышный золотой цветок. Смотреть на огонь – настоящая страсть Митяя. Мать говорит, что это у него – от деда. Как, впрочем, и многое другое.
Митяй вообще уродился в деда – башкира. Волосы черные, жесткие, как проволока. От макушки идут веером, и никакой силой их не уложить. Лицо широкое, скуластое. Глаза слегка раскосы. Чудно было всем глядеть на него рядом с родителями. Отец – русоволосый, голубоглазый, слегка курносый – похож на Иванушку из сказки. Мать – беленькая, будто ромашка. И между ними сын – иссиня-черный, смуглолицый, раскосый. То ли татарин, то ли монгол. Отец шутя так и звал его: «Мое татаро-монгольское иго. Сладкое мое иго!»
И характером Митяй вышел в деда: несговорчивый, настырный, все встречь течения плыть норовит. А иногда дедов норов пробуждается в нем прямо-таки яростно. Тогда Митяю все нипочем. Огонь полыхает в его груди, отблески того пламени бродят в раскосых глазах. В такие моменты ничто не может остановить его на пути к задуманному...
– Митек, говорю же тебе – не получится, изведи спичку! – уговаривает мать.
– Чего это вдруг не получится-то? Все уже получилось! Митяй, бережно прикрыв ладонью огонек, несет его к лампе. Там осторожно переселяет его с лучинки на пропитанный керосином фитилек и прикрывает стеклом. Огонь в прозрачном своем домике быстро крепнет и успокаивается.
– Вот как хорошо, когда светло-то! – говорит мать. – Совсем другое дело! Ты с лампой управился, и я как раз все приготовила. Сейчас есть будем.
Митяй видит на столе не две, а три миски, и настроение у него разом угасает. Будто кто фитилек в нем увернул. Опять этот постоялец! Только забудешь о нем ненадолго, а он – вот, пожалте!
Мать перехватывает взгляд сына, замечает мгновенную перемену в нем и говорит – то ли Митяю, то ли так, сама себе:
– Опять Петрович целый день по хозяйству возился. Сегодня уж и крылечко изладил, и дрова в сараюшке сложил, и все еще что-то колотит. Надо бы за стол его кликнуть.
В голосе матери слышится вина и робкая просьба. Однако Митяй делает вид, что ничего не понимает. Старательно, будто это сверхважное занятие, рассматривает он только что зажженную им лампу. Лампа у них – старая, облезлая, скособоченная, слегка помятая, воняющая керосином, с узеньким фитильком, на кончике которого еле дышит тусклый скупой огонек.
Зыбкий язычок пламени испуганно вздрагивает от налетевшего сквозняка. «Все-таки пошла за постояльцем!» – догадывается Митяй, не отрывая взгляда от лампы. Пойманной бабочкой забилось в стеклянной ловушке, заметалось в поисках выхода пламя и упало бессильно, будто подстреленное громким, как выстрел, стуком двери. Митяй чувствует, как в нем самом тоже что-то обрывается и бессильно падает, когда слышит за спиной рядом с быстрыми мелкими шагами матери другие – неровно западающие, с деревянным пристуком и скрипом.
– Да убери ты свою шинелку, Петрович! Еще чего выдумал! – в голосе матери за напускной строгостью слышится легкая растерянность и скрываемая довольная улыбка. – Ну, к чему это?
- К тому, чтобы ты, хозяйка, не остудилась, – постоялец явно смущен. – На улице-то подмораживает, а ты ишь как выскочила. Да еще от печки. Тут как раз простуду и схватишь.
- Не схвачу. Мы ведь не избалованы. Ну, ладно, хватит рассуждать, – обрывает она себя, – давайте-ка скорее за стол. А то суп снова разогревать придется. Сынок, давай-ка ешь! И ты, Петрович, мой быстрее руки!
За столом Митяй старается сидеть так, чтобы не видеть постояльца. Однако у него это никак не выходит. Даже если закрыть глаза. И оттого еще противней становится осточертевший свекольник. И даже пайка хлеба, которую Митяй оставил на закуску, не приносит обычной радости.
Едят молча, старательно, не отвлекаясь на разговоры. И только уже поднимаясь со стула, мать говорит:
– А и правда, холодно уже на улице. На веранде-то, поди, не теплее. Давай-ка, Петрович, неси свою постель в дом. А то окоченеешь совсем.
И каждое слово – острой иглой в Митяя. «Мама! Что ты! Зачем?!» – хочется ему закричать что есть сил. Да сил-то как раз у него и нет.
– Не стоит беспокоиться, Валентина Васильевна. Я ведь таежник. И в сугробах ночевать приходилось. Меня холодом пронять непросто. А на веранде пока еще терпимо. Я ведь уговор ваш с Минеевной помню...
У Митяя отлегло от сердца.
– У Минеихи квартиранты скоро уходят! – радостно кричит он. – Мне Вовка сказал. Отцу квартиру дают. От военторга. На Октябрьской.
– Ну вот, видишь, все, значит, в порядке, – криво усмехается постоялец. – Я же говорил – не стоит беспокоиться. Так что скоро, Валентина Васильевна, сдашь ты меня прежней хозяйке – и все. И все... – еще раз повторяет он и уходит к себе на веранду, хромая и скрипя протезом.
– Да ведь холодно на веранде, а? – тихо, будто только для себя, говорит мать, но при этом смотрит на сына так, словно чего-то ждет от него. Однако Митяй, стараясь не видеть ее глаз, спешно поднимается из-за стола:
- Ой, как спать захотелось! Я пойду стелить, ладно?
- Иди, сынок, ложись, спи.
- Не-ет! Я без тебя засыпать не буду. Постелю только. А ты тут недолго, а!
- Да я что? Только со стола вот уберу да носки твои состирну.
– Ну давай скорее! – кричит Митяй уже из комнатки.
Комнаткой зовется у них часть кухни, отгороженная ширмой. Митяй очень любит ее. Правда, она совсем крошечная – в нее с трудом уместились две узкие железные кровати да тонконогая шаткая этажерка между ними, которая служит им и шкафом, и комодом, и книжной полкой.
В комнатке даже в пасмурную погоду солнечно от веселых ярко-желтых марлевых занавесок на окне – мать после каждой стирки подкрашивает их акрихином.
Есть в доме и настоящая комната. Но с первой военной зимы стоит она холодная, нарядная и нежилая, с наглухо затворенными ставнями и плотно закрытой дверью. Где же дров столько набрать, чтобы все отопить? А места им вдвоем с матерью и в этой комнатке хватает.
Кровать Митяя – у самой печки. Спит он всегда, прижавшись к ее широкой надежной спине. Летом, в жару, она приятно холодит. А зимой, в морозы, ласково дышит теплом. Даже сегодня – уж на что мать протопила всего ничего, а живым духом от печи повеяло. Тепло где-то глубоко, вроде бы еле ощутимо, а озябшие ноги согрелись. Тепло поднимается выше, постепенно мягко обволакивает. И вдруг словно кто ледышку ему под бок сунул: а как их постоялец укладывается спать на холодной щелястой веранде? Митяй, кажется, собственной кожей ощущает промозглость стылого матраца и неласковую шершавость суконного одеяла, тоже промороженного насквозь.
«Нельзя, что ли, было ему хоть постель согреть у печки? Сейчас бы ложился себе на тепленькое!» – про себя начинает ругать постояльца Митяй, но здесь же себя и обрывает: да надолго ли было бы то тепло? На веранде сейчас – что на улице, вмиг все выстынет. А может, пусть бы все же перешел одноногий на кухню? Но Митяй даже представить не хочет, что совсем рядом, за этой вот тонкой ширмой, почти здесь, в их с матерью комнатке, постоянно будет кто-то чужой, лишний, им совсем-совсем не нужный. Да и не «кто-то», а именно он – этот противный постоялец! Будет по-хозяйски ходить, стучать, скрипеть своим протезом... Нет, конечно, не из-за этого скрипа Митяю так противен одноногий. Совсем-совсем из-за другого. Из-за того, что...
Но Митяй скорее обрывает эту мысль – он никогда не разрешает себе додумать ее до конца...
- Мама! Ну, чего ты там долго? Не управилась еще, что ли?
- Управилась, сынок, управилась.
- Дак чего же не идешь?
- Да подышать хочется, посижу немного на крылечке, – виноватые нотки в голосе матери говорят сыну больше, чем слова.
- Но я ведь жду тебя, не засыпаю! Поговорить же мы хотели...
- А ты спи, сынок, спи. Мы с тобой в другой раз поговорим. Мы еще наговоримся с тобой досыта!
- Но ты же обещала! – кричит Митяй.
Однако мать уже не слышит его. Только дверь в кухне стукнула – и тихо.
Вот, опять, опять! Значит, снова будет сидеть на крылечке рядом с этим проклятым одноногим. «Подышать»! Да раньше у нее и понятия такого не было. А теперь – почти каждый вечер – все «подышать»! А ему, значит: «Мы поговорим с тобой в другой раз»! Чтобы не заплакать, Митяй больно прикусывает губу.
А как было хорошо еще совсем недавно, какие у них с матерью были вечера! Обычно разговор они начинали еще за столом. Потом Митяй бежал сюда, в комнатку, стелил обе кровати. Мать быстренько прибирала со стола и скорее – тоже сюда. Чтобы не жечь зря керосин, они задували лампу и говорили впотьмах. Говорили всегда об одном: как хорошо было «еще тогда» – значит, до войны, когда был еще с ними отец, – и о том, как будет замечательно «потом» – это, значит, когда кончится война и снова их станет трое. Да это же было самое интересное за весь день! Как всегда ждал этих разговоров Митяй да и она, кажется, – тоже. И вот, пожалуйста: «Мы с тобой еще наговоримся досыта»! Митяй больше не может сдерживаться и плачет в подушку.
А все он виноват, он – этот проклятый постоялец! Ну зачем его сюда привели?! Митяй хорошо помнит тот день.
Он вовсе не почуял беды, когда весной бабка Минеиха привела к ним своего постояльца. Был тот лохмат, грязен и по обыкновению пьян. Сквозь неопрятную растительность, сплошь покрывающую лицо, продирался равнодушный, покорный взгляд. В одной руке держал он тощий, замызганный вещмешок, в другой – пустое зеленое ведро. Как понял Митяй, это было все его имущество.
– Вот чо, девка, подфартило мне малость: постояльцы сыскались выгодные, – возвестила Минеиха с горестным выражением на лице. – Упускать нельзя никак. Всех – трое. Приехали издаля. Сам в военторг устроился, в каких-то начальниках будет. Уж и дров машину пообещался привезти. Да жена у его – краля расфуфыренная. Да малец у них – однако чуть поменьше твоего.
– А чего-то вроде как недовольна, Минеевна? – спрашивает у гостьи мать Митяя. – Можно подумать – горе у тебя. Ведь чуть не плачешь.
– Дак тут заплачешь, – Минеиха и впрямь вытирает рукавом покрасневшие глаза. – Ведь эта краля-то условие ставит. «Этого, – говорит, – пьяного чучела рядом не потерплю! Или, значит, мы, или он!» – бабка тычет пальцем в сторону своего постояльца. – И сроку дала до вечера. «А то, – грозится, – такую-то халупу, как твоя, мы завсегда сыщем!»
- Да, я думаю, могли бы и получше найти. Твоя-то изба уж совсем...
- Оно, конешно, так. Да только мужик-то этот, сразу видать, не промах. Квартиру ему обещают. А устройся он счас где получше, дак, поди, и не вырешат сразу: мол, ничо, подождешь. А ко мне придут – какой разговор: развалюха да теснотища, а зимой еще и холодина. Но они до зимы и не собираются жить у меня, в крайности – только до осени. И что же мне теперича делать?
- А что такое?
- Дак, видишь, что выходит? Значит, я счас этого постояльца своего спроважу. Они – временные. Получат квартиру – и поминай как звали. А я останусь на бобах. Во... А ты говоришь... Тут небось заплачешь.
- Ну, а сейчас куда этого-то повела?
- Дак вот, девка, к тебе, значит, привела. Да ты погоди руками-то махать. И глаза на меня большие не делай. И помолчи маленько, меня послушай.
– И слушать не буду! Ты зря время-то не трать, Минеевна, веди-ка его куда дальше.
– Вроде как неправильно будет тебе старого человека выгнать и не выслушать. Ты пограмотней меня – должна бы и понимать. Так что молчи да слушай. Ты, Валентина, баба, конешно, хорошая, что скажешь – аккуратная, работящая, умная. Но я тебе прямо скажу – бестолковая. Ты уж на правду-то не обижайся. Такая квартирища у тебя задаром пропадает! Ведь это же только подумать – две комнаты, да кухня, да веранда. Вам вдвоем-то сколь надо? Угол – и все. А остальное, ежели по уму-то, сдавай себе постояльцам да бери с них денежки.
- Не надо нам их денег! – не выдерживает Валентина. – Мы с Митей как-нибудь и без них обойдемся, проживем.
- «Как-нибудь»! – передразнивает Минеиха. – А могли бы и не как-нибудь. Вот она, твоя бестолковость, тут и выходит.
- Да ведь люди чужие в доме – это же не шутка. Не родные ведь, не свои. И кто его знает, какие бы попались. А у меня все же сын.
- Ну, люди-то, может, и разные, – соглашается бабка. – Да я-то кого тебе привела?
- Ой, Минеевна, ну зачем пустые разговоры! – начинает сердиться Валентина. – Нам с Митей только чужого мужика в доме не хватало. Да еще и пьянчугу. А Никола вернется – думаешь, похвалит, да?
- Значит, все ждешь своего Николу?
- А как же!
- Выходит, ни бумаге казенной, ни друзьям-товарищам не веришь?
- Бумага у нас, слава богу, не похоронка. А коль «без вести», значит, весть в любой миг прийти может. А друзей-товарищей – всего-то один Фрол. Ему – не верю!
«Ох и дура баба»! – хочется сказать Минеихе. Однако она сдерживается и говорит совсем другое:
- Ждешь? Ну и жди! Может, и впрямь откуда ни на есть через столько времени свалится твой Никола. А только постоялец мой тут тебе не помеха. Никаких с им забот: напьется тихонько да и сидит себе сиднем после на крылечке – чтой-то все в небе высматривает... Так что, девка, ты мне еще и спасибо скажешь за такого квартиранта.
- Спасибо, Минеевна, я тебе и сейчас скажу хоть десять раз, только веди ты свое «золото» к кому-нибудь другому!
- Еще чего! Да ведь его же с руками у меня отберут. Но, коль захватят его наши куркулихи, я же после зубами у них не вырву. А у тебя-то я завсегда его заберу.
Видя, что Валентина продолжать разговора не намерена, Минеиха преграждает ей путь:
– Да ты в комнаты его не пускай. Вот туточки, на веранде, уголок отведи – и все. Невелик, поди-ка, барин – обойдется. Замерзнуть не замерзнет – на улке почти лето. А к осени я его у тебя заберу. Говорю же – мои зимовать у меня не станут.
Постоялец, пока идет перебранка, стоит рядом, понурясь, словно заезженная стреноженная лошадь. Потом ставит ведро на пол, перехватывает вещмешок в другую руку и переступает с ноги на ногу. Раздается жалобно-пронзительный скрип. Валентина вздрагивает, испуганно смотрит на его неживую ногу и бессильно машет рукой:
– Ну, если на веранде и только до осени... А там, коль твои не съедут, девай его куда хочешь!
Минеиха, не веря в такую свою скорую победу, опрометью кидается бежать, боясь, как бы Валентина не передумала. А ее постоялец стал их постояльцем. Он вынул из мешка шинелку, кинул ее в пустой угол веранды, отощавший оттого мешок положил вместо подушки. Перевернутое зеленое ведро приспособил как стол. Поставил на него початую бутылку и кружку, налил половину и поднес Валентине:
– Ну, с новосельем, хозяйка, что ли!
Но она отпрянула с таким ужасом, что он вроде тоже чего-то забоялся и сам пить не стал. Однако скоро уже был совсем хорош и до ночи сидел потом на крылечке, вперившись в небо...
Поначалу мало что изменилось в их доме с появлением постояльца. Его было не видно и не слышно. Они даже частенько забывали о нем и вспоминали только, споткнувшись об него. Будто прибавилась в доме табуретка или стул, к примеру, – и только.
Уловив тот редкий момент, когда постоялец не был пьян, Валентина подступилась к нему с расспросами.
– Как зовут-то тебя?
- А что? – постоялец испуганно огляделся.
- Да ничего. Но, коль уж ты тут, рядом, надо же как-то называть тебя. Как тебя Минеиха-то кликала?
- Да никак. На что я ей?
- Ну, а другие? Как тебя раньше-то звали?
- На фронте звали «сержант».
- У тебя, что же, имени, что ли, нет, сержант?
- Почему это нету? Есть имя. Да не каждый его вы говорит. Я и сам-то не вдруг вспоминаю. Ексакустодиан – слышала когда-нибудь такое?
- Господи! И впрямь – ни запомнить, ни выговорить. За что ж это тебя так?
- Бабка так удумала. Говорит, святой такой был – большой мученик. Видать, сам не домучился – других именем своим для мук наградил. Зато отчество у меня легкое– Петрович. Меня раньше-то все больше так и звали. Еще в парнях ходил, а уже – «Петрович».
– Что, и мать, и жена так звали?
Он дернулся и промолчал.
- Семья-то, спрашиваю, есть у тебя? – не отступалась Валентина.
- А тебе на что?
- А вот узнаю их адрес да напишу про тебя, пьянчугу. Поди, безногим боишься показаться им, дурачок. Пусть-ка приезжают да заберут тебя домой. Может, еще и снова человеком станешь.
- Некому писать, хозяйка. Нету у меня никого. Мать давно померла. А жену с дочками в эшелоне разбомбило. Подчистую!
- Ой, прости... Петрович! Прости меня, глупую!
- Да ладно, чего уж там!
- Дочки-то взрослые были, да?
- Четырнадцать лет и двенадцать.
- Что-то больно уж малы для тебя?
Постоялец молчит.
- А все-таки зря ты пьешь, зря! – снова начинает разговор Валентина. – Бросал бы пить да на работу бы шел!
Но он, всегда такой тихий да смирный, вдруг озлился, запрыгал на одной ноге, другой рисуя вокруг себя круги.
– Пойду, сегодня же пойду! Часу в городе вашем не останусь! Только ногу мне мою пусть отдадут! Никак мне на работе без ноги-то нельзя. Охотник же я. Понимаешь – охотник-профессионал. По полста километров в день исхаживал. По тайге, по бурелому. Летом – так, а зимой – на лыжах. Может, мне к ней лыжину приладить? – тычет он пальцем в сверкающую свежей кожей неродную свою ногу, которая, не поспевая за хозяином, волочится сзади. – Не умею я больше ничего, – добавляет он уже потише. – Я и на войне-то только шел да стрелял.
Вечером, когда Митяй, вдоволь наговорившись с матерью, уже засыпал, она вдруг длинно вздохнула:
– Вот горе-то: жену и деток потерять разом. Да еще и ногу впридачу! Тут, однако, и не захочешь, да запьешь...
Не умея терпеть в доме никакой грязи, Валентина в первую же свою стирку заставила постояльца снять с себя всю одежонку.
– А ну, скидывай свое обмундирование, Петрович, сдавай в санобработку!
Он не посмел перечить и смирно просидел целый день в шинели, пока она терла на доске, кипятила, а после штопала его исподнее, гимнастерку и галифе. Его шинель – тоже вычищенная и заштопанная – теперь по ночам отдыхает у двери на гвозде. А он по-барски спит на настоящем матраце под старым суконным одеялом, которое тоже дала ему Митькина мать.
В день стирки, просидев целый день голым под шинелью, постоялец никуда из дому выйти не мог, бутылкой не разжился и остался к ночи трезвехонек. Увидев, что хозяева собираются ужинать, он, видно, вспомнив, что и сам еще не ел, стал выкладывать на перевернутое зеленое ведро свою всегдашнюю еду: пайку хлеба, луковицу и пересушенную, с загнутыми хвостами тараньку.
Однако на этот раз Валентина не дала ему приступить к трапезе:
– Давай-ка, Петрович, к нам! Поди, жидкого да горячего и не помнишь, когда ел! Поешь-ка хоть разок по-человечески, за столом.
Петрович даже испугался:
– Да это... к чему! Ладно, чего там! Не надо... вроде...
– Ладно тебе отнекиваться! Иди, говорю, к столу! – легонько прикрикнула на него Валентина. – Только хлеб уж свой, конечно, неси. Да и рыбу давай сюда, с картошечкой горяченькой – в самый раз будет.
Он засмущался, засуетился, сгребая свой провиант и перенося его на стол. У рукомойника долго тер руки. Табуретку свою отодвинул по возможности подальше от стола, сел на самый ее краешек, взял в руку миску со свекольником и оробело начал хлебать.
– Чего это отодвинулся за тридевять земель? Не бойся – не кусаемся! – Валентина не удержалась – похвалила его: – Ишь ты, прям человек человеком сегодня. Вот бы всегда-то так!
Он засмущался еще больше и отодвинул свою табуретку еще дальше. Дохлебав суп и вымазав миску куском хлеба, взял в ладонь вареную картофелину и начал осторожно есть, откусывая по малости, будто редкое лакомство. «А ведь точно – горячего-то сто лет уж не ел!» – отметила про себя Валентина.
Назавтра Петрович, с утра сходив в баню, весь день был трезвым, маялся, болтался из угла в угол, не зная, куда себя приспособить. Однако совсем уж к вечеру, будто чего-то испугавшись, спешно опрокинул в себя кружку вонючего денатурата. Потом возле своего зеленого ведра сосредоточенно грыз тараньку. А вечером, сидя на крылечке, по обыкновению выискивал что-то в небе.
Но спустя еще несколько дней, трезвый и хмурый, снова сидел с ними за столом и, отодвинув табуретку подальше, ел Валентинино варево. Так и повелось. Пьяного своего постояльца Валентина брезгливо обходила, даже не глядя в его сторону. К столу же звала его только трезвого. Такое случалось все чаще, и бывал он тогда еще мрачней и угрюмей.
Видать, не привык Петрович пользоваться дармовым и старался теперь отплатить своей новой квартирной хозяйке за ее доброту. А может, просто истосковался по работе. Кто его знает, отчего, но только принялся он исполнять в доме всякую работу: поднял и залатал похилившуюся ограду вокруг дома. Досок не было, и он ловко заплел дыры принесенной им откуда-то толстой проволокой. У вставшего стеною забора разом оборвалась дорожка, которая давно уже шла через весь их двор к оторванной калитке. Соседи, привыкшие ходить к реке напрямки, теперь удивленно обходили его по проулку.
Отвоеванное вытоптанное пространство Петрович решил вскопать и засадить какой-нибудь поздней овощью. Работал он, только когда Валентины не было дома. Но Митяй-то видел, чего стоят одноногому задуманные им грядки. Прежде, чем начать работу, тот пытался потверже укрепиться на земле. Пошире расставив ноги, протез слегка ввинчивал в землю, сам же по-боксерски наклонялся вперед. Не имея возможности помочь себе ногой, он вгонял лопату в землю только силой своих рук. Высоко подняв ее и прицелившись, резко бросал вниз всей тяжестью тела. Лезвие жалобно звенело, стукнувшись о каменно-утоптанную землю и отскакивало от нее. А он остервенело бил и бил снова, расковыривая малые царапины на теле земли. Иногда, задумавшись о чем-то, он забывал о мертвой своей ноге и пытался занести ее над лопатой. Тогда терял равновесие и падал.
Митяй понимал, что Петрович стесняется своей неуклюжести. Поэтому притворялся, что не видит, как корячится над грядками одноногий. Смотрел потихоньку из окошка и ругал про себя: «Во настырный! Дались ему эти самые грядки! Будто без них не проживем!» В отсутствие постояльца Митяй не раз принимался за эту работу, пытаясь хоть немного помочь упрямцу. Однако, хоть и отбил ногу о лопату, но так и не смог вскопать хоть малый клочок утоптанной земли. Он жалел Петровича и сердился на него за глупое упрямство, но вслух ничего такого не высказывал. Сам постоялец тоже не из разговорчивых – все больше молчком, молчком.
Но когда он все же вскопал давным-давно пустующее пространство, то подошел к Митяю и сказал, стесняясь:
– Однако, вода нужна, Дмитрий. Посадки вести будем.
Митяй наносил воды, и они вместе засеяли луком и поздней редиской новорожденные грядки.
Управив огородные дела, Петрович принялся за дом. Перебрал и вставил заново рассохшиеся перекошенные рамы. Залатал прохудившиеся стены сеней, сменил прогнившие доски на крылечке. Даже крышу подремонтировал, хотя непостижимо, как умудрился он забраться со своей одной ногой по хлипкой шаткой лестнице.
Потом отыскал в кладовке мешок со старой обувью. С базара принес кусок кожи, дратву и старую покрышку от большого колеса. Молоток и гвозди нашел тоже в кладовке. За лапой сходил по-соседски к Степке-сапожнику. И тот, удивленный неожиданной трезвостью гостя, одолжил свой главный сапожный инструмент на неделю, пока сам будет гостить у дочери в деревне. За эту неделю Петрович починил все, что еще хоть как-то можно было приспособить в дело. Из покрышки вырезал новые подошвы, из кожи – заплаты, и старые брошенные обутки стало можно носить.
Митяй, конечно, понимал, что постоялец дела делает хорошие, нужные – те, которые им с матерью не под силу. И крыша теперь протекать не будет. И обутки, и огород... Но почему-то неприятна Митяю эта помощь – и все тут. Он и сам, пожалуй, не смог бы толком объяснить, в чем тут дело.
Мать его тоже старания Петровича не одобряла. Правда, тот никогда при ней и не работал и вел себя так, вроде он здесь ни при чем. И делал вид, будто не слышит ворчания Валентины, что работника она не нанимала и рассчитываться ей нечем.
Переделав в доме все попавшиеся на глаза дела, Петрович принялся чудить. Из старых консервных банок соорудил мудреный, звенящий, юркий на ветру флюгер. Потом вырезал из деревяшки чудного петуха и прибил на калитку. Когда поднимаешь щеколду, петух хлопает крыльями.
Три дня Петрович ножа из рук не выпускал – все что-то строгал, строгал. Потом колотить принялся. Митяй вроде невзначай старался пройти мимо, смотрел украдкой, смотрел, но никак понять не мог, что же должно получиться.
– А чего это такое будет-то? – не выдержав, все же спросил он.
– Поживем – увидим, – неопределенно ответил Петрович. Неуверенно как-то ответил, похоже, и впрямь не знал, что из его затеи выйдет.
Валентина тоже с любопытством поглядывала на работу Петровича.
Наконец тот вырезал последнюю закорючку, вбил последний гвоздь.
- Ну вот и все, кажись!
- Что же это такое?! – недоуменно спросила Валентина.
- Дак для птичек...
- Скворечник, что ли?
Он согласно кивнул.
- Да ты что, Петрович! Какой же это скворечник? Это же терем-теремок какой-то. Зачем ты тут всяких завитушек-то намудрил?
- А может, птичкам тоже красота по нраву, а? – робко высказал догадку Петрович.
- Да ни одна птица жить в этом чуде-юде не станет! – уверенно сказала Валентина. – Нет, не станет! К тому же, – добавила она, – уж и время их прошло. У них же сейчас уже птенчики вылупились. Кому же теперь хатка эта нужна? Да еще такая...
- Поживем – увидим! – опять повторил Петрович. – Однако, Дмитрий, как бы его на дерево повесить, а?
Митяй, нисколько не веря в эту затею, прибил теремок на старый тополь у дровяника. Как и положено – лицом на восход.
И вот ведь чудо – уже на следующий день поселилась там пара каких-то неказистых пичуг. Мало того – так ведь еще и песни горланить принялись. Словно именно этот терем и искали всю жизнь, а теперь вот нашли и счастливы безмерно.