После «Поминальной песни» Тао мысленно обратился к «Эпитафии самому себе». Эту вещь он обдумывал особенно долго, поэтому, как ни старался, не нашел ни одной нуждающейся в переделке фразы. Но вот дошел до самых последних строк: «...Не стоит возноситься из‑за прижизненной славы, и тем более – кому нужны посмертные песнопения? Воистину тяжела жизнь человека, так что же страшного в смерти? Увы, увы...» В этот момент что‑то влажное, горячее упало с его ресниц. Он оплакивал не свой печальный финал, а всю свою трудную, полную разочарований жизнь.
«Воистину тяжела жизнь человека, так что же страшного в смерти?» Ведь именно так я всегда думал. Эх, ноги меня не держат – значит, совсем стариком стал. Да, всему должен быть свой конец. Завтра же надо попросить младшую невестку сходить в отцовский дом и попросить того каллиграфа еще два раза переписать мои стихи. Тогда будет чем отдарить Янь Яньчжи – ведь он оставил мне двадцать тысяч монет – немалые деньги. Просто так он дарить не станет, да и я просто так не взял бы.
Пока Тао Юаньмин размышлял, за окном захлопал крыльями петух и громко возвестил наступление нового дня.
1961
Корейская Народно‑Демократическая Республика
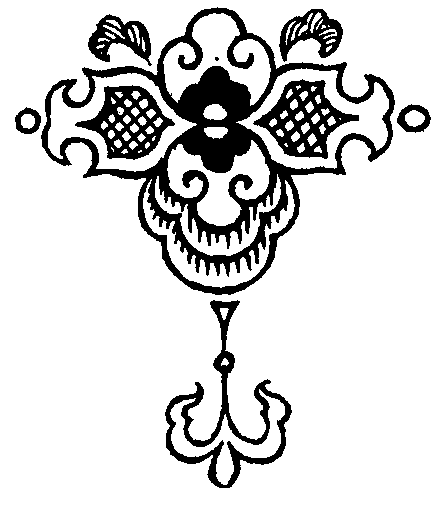
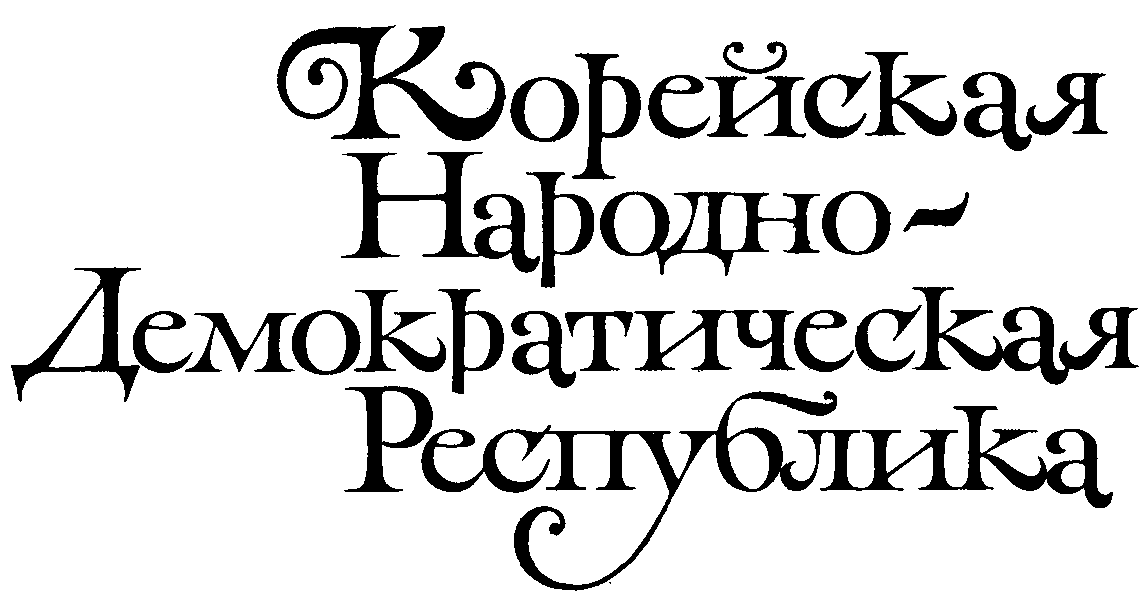
Кан Гёнэ
Кан Гёнэ (1906–1944) родилась в семье безземельного крестьянина‑батрака. С пяти до шестнадцати лет жила в доме отчима, высокопоставленного чиновника, где остро почувствовала, что такое социальное неравноправие. Вместе с тем она в это время много читает: в домашней библиотеке были собраны шедевры китайской и корейской классики, произведения новой и новейшей корейской литературы.
Приехав в Пхеньян, она в 1924 году поступила в женскую среднюю школу и продолжила литературное самообразование. Здесь она читает переводы мировой классики, знакомится с идеями марксизма‑ленинизма. За организацию забастовки ее исключают из школы на третьем году обучения. Далее – среда разночинной интеллигенции, поиски полезной деятельности, а с 1929 года – вынужденная эмиграция в Северо‑Восточный Китай (город Лунцзин). На чужбине она перепробовала немало профессий, нередко бывала без работы.
В августе 1931 года состоялся литературный дебют Кан Гёнэ: она публикует автобиографический роман «Мать и дочь». Затем появляются в печати рассказы «Отец и сын» и «Эта женщина» (1931–1932), «Огород» и «Футбольное поле» (1933), роман «Проблема человечества» (1934), рассказ «Расчет» (1935), повесть «Деревня под землей» (1936), рассказы «Тьма» и «Наркотики» (1937–1938). Напряженный труд писательницы оборвался в конце 1938 года тяжелой болезнью.
В 1939 году Кан Гёнэ возвратилась на родину, в уездный город Чанён провинции Хванхэ, где и умерла 26 апреля 1944 года.
Кан Гёнэ рассказала в своих книгах о корейском обществе 20–30‑х годов, когда страна жила в условиях жестокого оккупационного режима, установленного японскими милитаристами. Произведения Кан Гёнэ, не всегда равнозначные в художественном отношении, неизменно исполнены глубокого сочувствия к угнетенным и обездоленным, искреннего внимания к их внутреннему миру, к их надеждам и чаяниям.
Наиболее известным произведением Кан Гёнэ является роман «Проблема человечества». В нем рассказывается о том, как крестьянская молодежь, спасаясь от голода, нищеты, произвола помещиков, уходила в город. Тема романа – рождение и становление корейского пролетариата, революционной интеллигенции.
А. Артемьева
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Роман
Если хотите увидеть деревню Ёнъён, поднимитесь на вершину горы – отсюда вся деревня как на ладони. Вот громадный дом под черепичной кровлей – это усадьба помещика Чон Токхо. Чуть поодаль два дома под оцинкованным железом – волостное управление и полицейский участок. Словно крабы к киту, мрачно лепятся к усадьбе убогие лачуги крестьян. А вон там, ниже, видите голубое озеро? Это озеро Гневное. Оно дает влагу полям, оно питает все живое вокруг. Местные жители почитают Гневное как святыню.
Никто, конечно, не знает, когда и как возникло озеро, но из поколения в поколение передается в деревне легенда о Гневном. А говорится в ней вот что.
«Когда‑то давным‑давно жил в этих местах очень богатый старый помещик. Богатства его были несметны, а жадность не ведала удержу. Слуг у него тьма‑тьмущая, полей и угодий не измерить, тучного скота не сосчитать. Каждый год в его амбары засыпали горы риса, но он скорее сгноил бы хлеб, чем помог бы бедняку. Да ему и мысли такой не приходило в голову. Нищему куска хлеба никогда не подал. Его ворота всегда были на крепком запоре.
Но вот однажды деревню постигла беда – выдался неурожайный год. И когда люди начали пухнуть от голода, пошли они к богачу и стали умолять его о помощи и спасении. Не один раз ходили... Но сытый скряга был глух к их мольбам и гнал умирающих с голоду людей со двора, а там амбары ломились от зерна. Что им оставалось делать? Доведенные до отчаяния, сговорились они и ночью потихоньку унесли из амбаров помещика хлеб и угнали из хлева скот.
На другой же день разъяренный жадюга подал жалобу в уездное управление, а через несколько дней всех крестьян схватили и жестоко наказали: кого забили до смерти, кого угнали неведомо куда... Остались лишь старые да малые.
И огласилась усадьба помещика плачем, стонами, ужасными криками. Одни оплакивали своих детей, другие тщетно звали отцов и матерей.
И вот потоки слез – слез горя, отчаяния и гнева, в одну ночь затопили громадную, с китовью спину, усадьбу помещика, и разлилось на том месте большое озеро».
Вот оно перед нами – озеро Гневное. Любой с первого взгляда может определить ширину озера, но никому еще не удавалось измерить его глубину. Говорят, однажды кто‑то связал несколько мотков шелковых ниток и опустил в озеро, но дна так и не достал.
Крестьяне гордятся своим озером. Стоит появиться в деревне новому человеку, ему обязательно рассказывают легенду о Гневном. Младенец заучивает ее, едва начав лепетать. Поэтому все местные жители помнят эту легенду.
Верят крестьяне в чудодейственную силу Гневного и связывают с ним все свои надежды и чаяния. К нему же приходят они со своими невзгодами и горестями. Заглянут они в его бездонную глубину, и словно легче им станет. Говорят, будто и тяжкие хвори исцеляет чудесное озеро – стоит прийти больному, помолиться Гневному, и болезнь как рукой снимет.
По большим праздникам крестьяне бросают в озеро хлеб, рис, даже одежду и обувь. Одно странно – живя близ такого чудесного озера, не становились они ни счастливее, ни богаче, лишь год от году все больше погружались в нищету. Но все равно, кроме как от озера, неоткуда им ждать помощи. По крайности, утешение‑то оно им приносит всегда – стоит только вглядеться в его необыкновенную голубизну.
* * *
Вода Гневного, просачиваясь сквозь осоку, протягивающую свои длинные стебли навстречу весеннему солнцу, бежит и бежит по канавкам в поля. Старые ивы, что склонились над озером, кажутся со стороны безжизненными, но и они начинают покрываться нежной зеленью лопающихся почек. Вынырнул жук‑плавунец, покружил, побежал по водной глади, оставляя за собой четкий след, и скрылся.
Вдруг послышался легкий стук башмачков. Вот он все ближе, ближе – на гребень горы взбежала девочка. За нею явно гнался кто‑то: то и дело оглядываясь, она что есть духу побежала вниз. Корзинка для овощей мешала ей: девочка то перекладывала ее из руки в руку, то ставила на голову, наконец, с досадой прижала к груди. При этом она то и дело оглядывалась на вершину горы.
– Эй, девчонка! – раздался голос. – Постой, тебе говорят!
Погоня настигала девочку. Она снова подняла корзинку на голову и припустила из последних сил, но вдруг споткнулась... и кубарем покатилась к подножью холма. Корзинка, обгоняя хозяйку, закувыркалась по склону. Маленький дровосек, злорадно хихикая, подбежал к девочке и удержал ее.
– Ну что, девчонка! Небось за щавель свой испугалась?! А может, я на разбойника похож? Вот и полетела!
Девочка, всхлипывая, поднялась, поискала глазами корзинку – а она далеко, на краю ячменного поля, – украдкой глянула на дровосека и отвернулась. Мальчишка живо сбежал вниз и возвратился с корзиной.
– Гляди‑ка! Сейчас все съем!
Он поставил корзинку перед девочкой, запустил в нее руку и, захватив горсть щавеля, стал с хрустом жевать его. Девочка снова покосилась на своего преследователя.
– Отдай! Ишь какой! – Она подскочила к нему и вырвала корзинку.
Вид надутой от злости девчонки рассмешил маленького дровосека. Вдруг его внимание привлекла черная родинка на ее веке.
– Что это у тебя? – ткнул он пальцем в веко.
– Больно же, ты что?!
Девочка отшатнулась и с силой оттолкнула руку мальчишки. Тот шмыгнул носом.
– Ух и жадина ты! Ну, хоть один еще... – И протянул руку.
Его жалобный, просящий голос немного рассеял страх девочки; она взяла из корзинки горстку щавеля и бросила мальчишке. Пока он подбирал листочки и прямо со стебельками, причмокивая и глотая слюну, совал в рот, девчонки и след простыл. Огляделся, а она уже за озером!
– Ах такая‑сякая! Удрала все‑таки!
Он смотрел, как, чуть покачиваясь, удаляется ее фигурка, и ему вдруг тоже захотелось вернуться в деревню.
– Эй, Сонби! Подожди‑и‑и! Пойдем вместе! – закричал юный дровосек и быстро стал спускаться. Но когда он подбежал к озеру, Сонби уже скрылась из виду. Он с досады плюхнулся на землю.
– Одна убежала... Ну и ладно...
Нечаянно глянув вниз, мальчик увидал свою физиономию в воде. Он весело рассмеялся и стал гримасничать, кривляться, наблюдая, как его передразнивает его же собственное отражение. Вдруг ему нестерпимо захотелось пить. Он вскочил, скинул пропитанную потом рубашку, бросил ее на траву и опустился к воде. Распластавшись на берегу и вытянув шею, стал пить. Прохладная вода освежала горло. Напившись, он проворно вскочил и перевел дух. Легкий ветерок, напоенный ароматом весенних трав, ласково гладил кожу и осушал влажное тело мальчика.
– А моя чиге...[40] – хватился он вдруг. Ведь это он за девчонкой прибежал сюда!
В один мах он уже был на горе, возле своей чиге, взял серп и стал жать траву по склону горы. Скоро эта работа утомила мальчика, он подошел к чиге и прилег, опершись на нее. Аромат свежескошенной травы дурманил голову, и его вдруг потянуло в сон. Он закрыл глаза...
– Чотче![41] – сквозь дремоту услышал он вдруг, вскочил испуганно и стал озираться по сторонам.
Тяжело опираясь на костыль и пыхтя от усталости, к нему направлялся Ли‑собан[42].
– Ли‑собан! – обрадовался Чотче и внезапно почувствовал, что изрядно проголодался.
– Я так и думал, что ты здесь! Я за тобой пришел! – говорил Ли‑собан, ласково глядя на мальчика.
Их длинные тени сбегали к самому подножию горы. Чотче взвалил на спину чиге с накошенной травой.
– За мной пришел, говоришь?
– Да ведь уже солнце заходит, – пояснил Ли‑собан, – мать беспокоится! Ты уж не пугай нас так!
Чотче, шагая вровень с Ли‑собаном, лишь хмыкнул в ответ. Яркое солнце слепило глаза, так что он не представлял себе спросонок – утро сейчас или вечер.
– Мать ужин приготовила и ждет не дождется тебя!
Ли‑собан умышленно заводил разговор о матери, пытаясь разгадать, за что мальчик дуется на нее.
– Ужин, говоришь?
Чотче остановился, посмотрел на Ли‑собана и тотчас же отвел взгляд. В лучах заходящего солнца равнина была подобна узорчатому шелку.
– Ли‑собан, – задумчиво произнес мальчик, – а что, если бы и я начал с этого года в поле работать?
У Ли‑собана екнуло сердце: что это ему пришло на ум?
– Я буду в поле работать, а ты мне обед будешь приносить и...
Он расплылся в улыбке, радуясь тому, что так здорово все придумал! «Да есть ли у тебя поле, где б ты мог работать?!» – чуть не крикнул Ли‑собан, но вместо этих слов из груди его вырвался лишь какой‑то невнятный звук.
– И уж тогда‑то ты, Ли‑собан, побираться не пойдешь: ты будешь есть хлеб, который я сам выращу!
Ли‑собан застыл на месте: так потрясен он был, пожалуй, впервые в жизни. С малых лет скитался он по чужим углам, сколько обид, унижений вытерпел, и даже вот ногу ему покалечили... А этот малец... о нем...
– Ли‑собан, ты плачешь?! – обернувшись, широко раскрыл глаза Чотче. И, чуть подумав, заявил: – А такую мать – ты меня и не уговаривай! – я все равно брошу!
И в его глазах засверкали злые огоньки.
– Э‑э! Это ты зря! Это нехорошо! – покачал головой Ли‑собан, недоумевая, за что этот мальчуган так зол на мать. Поругала? Так дети долго обиды не помнят... Может, он догадывается о ее распутстве? То Ю‑собан, то Ёнсу, да еще кузнец зачастил... Э‑эх!
У Ли‑собана пропала всякая охота продолжать этот разговор. Они вышли на узкую тропинку, бегущую по краю пшеничного поля.
– Ли‑собан! Много денег набрал сегодня?
– Какие там деньги! Сегодня в полевом кабачке справляли свадьбу, и я прогулял целый день. Только вот вернулся!
– На свадьбе... Значит, хлеба принес, да? Хлеба принес? – Постукивая палкой, Чотче вопросительно смотрел на Ли‑собана.
– Само собой!
– Много?
У Чотче потекли слюнки.
– Да принес малость.
– Если бы можно было всегда вдоволь есть хлеб, вот хорошо‑то было бы! – И он проглотил слюну.
– Этой весной я много буду приносить, ешь, пока живот не лопнет!
Чотче засмеялся и постучал палкой о камень. До чего хороши были в этот миг его потупленные глаза!
Смеркалось, когда они подошли к дому. Мать Чотче ждала их у ворот.
– И как тебя тигр не унес, чертенок! – в сердцах накинулась она. – Где пропадал?
Чотче скинул ношу и выпрямился.
– Хлеба, – потребовал он, войдя в комнату, и оглянулся на Ли‑собана.
Мать мигом сняла с полки миску с кусками хлеба и поставила на стол.
– Ну, бродяжка, здорово проголодался? На вот, наедайся досыта!
Чотче живо придвинул миску и стал с жадностью поглощать хлеб. Мать и Ли‑собан с умилением и жалостью смотрели на него. Чотче вмиг опорожнил миску.
– Больше нету?
– Нету, – буркнула мать, зажигая лампу. – Скажи спасибо и за это.
– Может, кашки бы ему, – промолвил Ли‑собан, глядя на ее щеки, которые при свете лампы показались ему чересчур румяными. Она отодвинулась от лампы.
– Ты, Ли‑собан, совсем испортил мальчишку, – недовольно проворчала мать, – все потакаешь ему... У щенка глаза лишь не сыты, от жадности готов все слопать.
Ей самой хотелось съесть хоть кусочек хлеба, но она решила подождать сына и поужинать вместе с ним. Однако малый совсем ошалел от голода, и у нее не хватило духу протянуть руку к хлебу. А теперь она с сожалением смотрела на пустую миску.
– Ли‑собан, пойдем скорее спать.
У Чотче уже слипались глаза. Как ни приятно было Ли‑собану сидеть возле его матери, но на нетерпеливый зов мальчика он тяжело поднялся, опираясь на костыль.
– Пойдем.
Чотче вскочил, схватил Ли‑собана за руку и потащил в свою каморку. Он тотчас же повалился у очага и, разметавшись на теплом полу, быстро заснул.
Вскоре с хозяйкиной половины донеслись невнятные голоса.
– Опять кого‑то принесло! – проворчал Ли‑собан и прислушался. Но там говорили очень тихо, и только порой доносился женский смех. Ли‑собану хотелось уснуть, он закрывал глаза, но шепот отгонял от него сон и сердце закипало от возмущения. Чуть не каждую ночь ему приходится быть свидетелем этого безобразия, да куда денешься?
Ли‑собан встал, закурил трубку и сел у окна. Лунный свет радугой проникал сквозь оконную щель.
– Подумаешь, какая!..
Ли‑собан удивленно оглянулся. Это Чотче, чмокая губами, бормотал во сне. «Выходит, он уже мечтает о какой‑то девчонке?» Если б только можно было сделать так, чтобы Чотче навсегда остался ребенком! Что его ждет в будущем? И чем оно будет отличаться от его, Ли‑собана, жизни? Он пододвинулся к мальчику, всмотрелся в него. Тот по‑прежнему спал крепким сном. Казалось, он переживал сейчас неповторимо счастливое мгновение.
Вдруг раздался неистовый крик. Ли‑собан поднял голову и насторожился.
– Ах ты, грязная тварь! Ах, потаскуха!
И тут все ходуном заходило. Ли‑собан подполз к двери.
– Эй, вы, господа! Взбесились, что ли? Потише!
– Заткнись ты там, убогий! У‑у, тварь! Мало того, что с этим ублюдком, так ты, видно, еще и с колченогим путаешься?! Тьфу!
Едва до ушей Ли‑собана донеслось: «...и с колченогим путаешься», он весь затрясся, руки и ноги онемели.
«Ну и хороши же вы все», – подумал он.
Стук, гром, шарканье, треск... Как видно, Ёнсу и кузнец крепко сцепились друг с другом.
– Говорят, щенок еще не понимает, что тигра надо бояться. Это как раз о тебе, молокосос! Вбил себе в башку, что она только с тобой, как верная жена?..
Раздался угрожающий крик:
– Обоих зарежу, проклятые!
– Ай, нож, нож! – завопила мать Чотче.
Ли‑собан схватил костыль, вскочил и кинулся на крик. Створки двери валялись на полу, лампа потухла...
– Вот! Вот!
Прерывисто дыша, мать Чотче протянула нож. Ли‑собан схватил его и поспешно заковылял на кухню. Он метался по кухне, не зная, куда бы получше запрятать нож; наконец сунул его в вязанку травы и вернулся в комнату.
– Ну зачем это? Вы, благородные, постыдились бы, – пытался он разнять развоевавшихся соперников.
– А этот куда еще лезет? Ты, колченогий! Тебе что, тоже оплеухи захотелось?
Кто‑то сильно пнул его ногой, и он, пошатнувшись, упал навзничь.
Костыль отлетел, и в темноте он не сразу смог найти его. Обшаривая пол, Ли‑собан чувствовал, как многолетняя затаенная обида подступила ему к горлу. Но что, что он мог сделать?! Нащупав наконец костыль, он с трудом поднялся и выбрался во двор.
Будь это пораньше, наверное, зевак бы собралось! Но сейчас была глубокая ночь и ни души кругом. Только над мрачной громадой горы Пультхасан ярко светит луна. Может, она тоже смеется над его увечьем и беспомощностью?
– Ли‑собан!
Он вздрогнул. Это Чотче выбежал во двор. Тревога сжала сердце Ли‑собана: как бы эти дьяволы... Он бросился к Чотче и схватил его за шиворот. Мальчишка рванулся.
– Гады, гады! – кричал он во все горло и старался вырваться, но, чувствуя, что его крепко держат, принялся колотить Ли‑собана кулаками.
– Пусти, ты!
– Чотче, Чотче! Не надо так, детка, нельзя, – уговаривал Ли‑собан, – ведь прибьют тебя, слышишь ли, прибьют!
– Ну и пусть бьют, пусть бьют, негодяи!
Извернувшись, он ткнул Ли‑собана головой в грудь. Ли‑собан опять опрокинулся на спину. Чотче подбежал к чиге с травой, выхватил серп и метнулся к дому.
– Куда ты! – Ли‑собан рывком настиг его, схватил его за ногу.
На шум во дворе, видимо, сообразив в чем дело, выбежала мать Чотче с дверным засовом в руках.
– Ну, бесенок! Чего тебе не спится, чего буянишь тут?
– А зачем эти негодяи приходят в чужой дом и буянят?
В доме, точно разряды молний, трещали удары. Ли‑собан похолодел: выскочат эти черти сюда, ведь несдобровать Чотче, покалечат. И он снова вспомнил, как схватился с помещиком и как ему сломали ногу. Неужели подобное несчастье обрушится на этого ребенка? Ли‑собан катался от ударов Чотче, но не выпускал его ноги. Из носа у него закапала кровь. Вдруг Чотче опомнился, увидел, что натворил, и отвернулся, всхлипывая и тяжело дыша. Ли‑собан поднялся, обнял Чотче и заплакал.
* * *
Взволнованная Сонби вбежала на задний двор.
– Мама!
Мать плела соломенные маты для крыши и, обирая с пучков оставшийся рис, ссыпала его в черпак[43]. Она вопросительно посмотрела на запыхавшуюся дочь.
– Ну что? Небось напутала что‑нибудь и тебя выругали?
Сонби покачала головой и приникла к ее уху:
– Мама, там... в усадьбе... ссорятся хозяйка и вторая жена из Синчхоня... И сам хозяин разбушевался!
Шепот защекотал ухо матери, она слегка отстранилась и вздохнула.
– Только и знают, что ссориться. Кому же на этот раз досталось?
– Раньше все хозяйке попадало... А сегодня вот избил вторую жену. Так жалко бедняжку! – Она машинально опустила руку в черпак с рисом и, помешивая, смотрела, как зернышки струятся сквозь пальцы.
– Ну уж содержанку бьют – ладно, но где это видано, чтобы истязать законных жен? – ворчливо проговорила мать.
Она внимательно посмотрела на возбужденную Сонби: щеки пылают, глаза блестят...
– Ты же слышала, мама, – возразила та, – что она не по своей охоте пошла в содержанки? Отец за большие деньги продал ее. Что же ей оставалось делать?
– Да, слышала... Нет ничего на свете страшнее денег!
Мать глянула на притихшую Сонби, и ее вдруг охватила тревога: что‑то будет с Сонби? Ведь она так выросла! Этой весной на ее чистых, но обычно бледноватых щечках заиграл румянец, да и вся она как нежный, готовый распуститься бутон!
– Что же ты, сидишь, а белье, наверное, еще не накрахмалила! – спохватилась она.
– Успею еще.
Сонби медленно, с явной неохотой поднялась, взглянула еще раз на черпак с рисом и рассмеялась.
– Мама! Если этот рис растолочь, тут, пожалуй, целая маленькая мерка будет!
– Ну, ну, беги беги!
– Угу.
Сонби поставила черпак и убежала. Мать задумчиво смотрела ей вслед.
«Как быстро летит время!» – вздохнула она.
Сердце ее сжималось при мысли, что недолго уже осталось Сонби беззаботно резвиться.
Она вытянула свои натруженные руки и стала разглядывать их. Пальцы в кровь исколоты соломой. И снова она вспомнила мужа. Если бы он был жив! Хоть и небогато жили, но разве при нем приходилось ей плести солому для крыши или чинить плетень? Особенно весной все работы вместе с ним казались ей легкими, все у них спорилось. Как беспечально жилось ей тогда!
Умер муж – и все теперь приходится делать самой. При муже она понятия не имела, что значит заботиться о метле для двора или о глине для обмазки стен – все было для нее приготовлено. Сейчас никто ничего за нее не сделает! А кто поможет ей покрыть крышу? Эта забота не давала ей покоя. В прошлом году не перекрывали, и местами, в провалах, уже проглядывала трава. За несколько бессонных ночей она приготовила четыре пучка соломенных веревок и до завтра закончит плести маты. Но чтобы поднять их на крышу, привязать к коньку, нужны мужские руки! Кого просить?
Она встала.
– И зачем ты оставил меня, зачем ушел один? – прошептала она с тоской и обвела взглядом деревню.
Куда ни глянь – все новенькие крыши, сверкающие яркой желтизной под лучами палящего прямо над головой солнца!
И опять нахлынули воспоминания.
Как тяжелы были последние дни мужа! До последнего вздоха он был в сознании, но так и не рассказал ничего. Потом вдруг захрипел... и перестал дышать.
Отец Сонби – Ким Минсу – был человек доброго и кроткого нрава и редкой честности. Долгие годы работал он у помещика Чон Токхо, но не воспользовался ничем, что стоило бы хоть медного гроша. В работе никогда не знал устали. Прикажи ему Токхо броситься в огонь и воду – бросился бы не раздумывая. В деревне все считали Минсу добрым малым. Сам Токхо вполне доверял ему. Получить крупную сумму денег, исполнить ли какое‑нибудь щекотливое дело он поручал только Минсу. Так продолжалось без малого двадцать лет. А восемь лет назад пришла беда.
Случилось это зимой. Сонби не было тогда еще и семи лет.
В тот день с утра снег валил хлопьями. Минсу, как всегда, встал рано и ушел в дом Токхо. Он убрал дворы и стал готовить корм коровам. Подошел Токхо.
– Ты сходишь сегодня в деревню Панчхукколь?
Минсу опустил голову.
– Ладно, схожу.
– Зайди ко мне.
И Токхо направился в дом. Минсу пошел за ним. В гостиной на утепленной части пола стояла конторка. Токхо достал счетную книгу и внимательно просмотрел ее.
– Ну да, в Панчхукколе... Этот тип задолжал почти пятьдесят иен[44]и, как видно, не собирается отдавать. Так вот, ты пойдешь и получишь с него.
Минсу опустил голову и молчал. Токхо ощутил нечто вроде жалости к нему.
– Ну что же? Пойдешь? Не сможешь, так старика пошлю. Не тяни, решай!
Минсу не мог ответить сразу. Лицо его покраснело, он колебался.
– Ну, почему ты такой несговорчивый? Идти‑то все равно придется... Да, и пусть только попробует и на этот раз не отдать, уж я с ним разделаюсь! Все заберу! Потряси его как следует да растолкуй что к чему!
Токхо свирепо уставился на Минсу.
– По дороге зайдешь к Менхо и Ансок.
– Хорошо.
– Отправляйся непременно сегодня, – уже решительным тоном приказал Токхо.
Он спрятал книгу в конторку, встал кряхтя и вышел. Минсу отправился на кухню, взял корм и пошел в хлев. Коровы сразу почуяли знакомый запах. Они лениво поднялись, потянулись к корыту и начали с удовольствием жевать сечку, от которой подымался душистый теплый пар. Минсу перетаскал весь корм и ушел.
Бесшумно падали хлопья снега. Минсу озабоченно взглянул на небо. «А снег‑то валит», – подумал он.
Дома Минсу стал молча переобуваться. Жена вопросительно заглянула ему в глаза.
– Куда это ты собираешься?
– Долги собирать.
– В такой день?!
– А какой сегодня день? Снег идет хлопьями, значит, наоборот, тепло, погода мягкая, – старался успокоить он жену.
Сонби, не спускавшая с отца глаз, подбежала, прижалась к нему.
– Папа, и я с тобой!
И, запрокинув голову, просительно заглядывала ему в лицо. Минсу обнял дочку и присел за обеденный столик. Но он лишь для виду зачерпнул немного каши и тотчас же встал из‑за стола.
– Ухожу на несколько дней. А ты хорошенько присматривай за Сонби да печь топи потеплее.
– В этакую непогодь посылать! Он, видно, думает, что люди из железа сделаны! – ворчала жена, словно видя перед собой хозяина.
– Ну что ты за человек! Чепуху ведь говоришь! – сверкнул глазами Минсу.
Мать гладила ручонку Сонби и вот‑вот готова была заплакать. Минсу провел рукой по волосам дочери, открыл дверь и вышел.
– Счастливого пути! – уловил он слова жены и мерно зашагал прочь от дома. Невеселые мысли занимали его.
Минсу отошел еще совсем недалеко, когда услыхал плач Сонби. Он оглянулся. Сонби по снегу бежала за ним. Минсу невольно сделал несколько шагов ей навстречу и остановился.
Остановилась и жена, удерживая Сонби. Минсу помахал рукой, приказывая идти домой, повернулся и стал удаляться.
А снег повалил еще сильнее.
Крупные снежные хлопья, похожие на лепестки пиона, все таяли и таяли у него на губах. Ему вдруг сделалось свежо, словно он напился холодной воды.
Все дороги занесло. Знакомые деревья по обочинам едва различались, и даже высокая гора Пультхасан едва проступала за сплошною снежной завесой.
Минсу, не видя дороги, проваливался то в канаву, то в рытвину. Шел наугад, от деревеньки к деревеньке. Обувь его обледенела и потрескивала при каждом шаге...
Так обошел он несколько нужных домов и наконец добрел до лачуги должника в Панчхукколе. Смеркалось. Был на исходе второй день с тех пор, как Минсу вышел из дому. Он постучал.
– Хозяин дома?
Хозяин открыл дверь, в которой тряпкой была заткнута дыра величиной с кулак, увидал Минсу, и его бледное, испитое лицо побледнело еще больше.
– В такой‑то снег! Проходите, проходите же скорее сюда!
Минсу вошел в комнату и в первое мгновение ничего не мог различить перед собой – до того было темно. Он на секунду закрыл глаза, а когда открыл, ему стало душно... Лучше бы и не приходить сюда! Вряд ли в этом доме найдется даже чем поужинать.
– Право же, в такой снег... Я сам все собирался зайти к вам, но как я мог явиться к хозяину с одними только словами? Как, должно быть, вы замерзли!
Видно было, что он не знал, с чего начать, чувствовал себя неловко.
– Послушай, собери‑ка нам ужин. Может быть, там хоть холодное что‑нибудь найдется.
Его жена, склонив голову, нехотя встала и вышла. Немного отдышавшись, Минсу поглядел вокруг. Из‑под черных как сажа лохмотьев, служивших, как видно, одеялом, доносился шорох. Лохмотья приподнялись, и оттуда заблестело множество черных глаз, послышалось хихиканье. Минсу не мог определить, сколько там детских головенок, но сразу догадался, что не одна и не две.
Налетевший еще с вечера ветер то завывал, то снова стихал. Бумага на двери временами жалобно трепетала, и снег залетал в жилье.
Жена хозяина принесла ужин. Минсу был ужасно голоден и рассчитывал подкрепиться кашей, но в миске оказалась всего‑навсего просяная похлебка, заправленная сушеной капустой. Однако голод брал свое, и он с жадностью стал хлебать эту жижицу.