Иван Дмитриевич Полуянов
Одолень‑трава
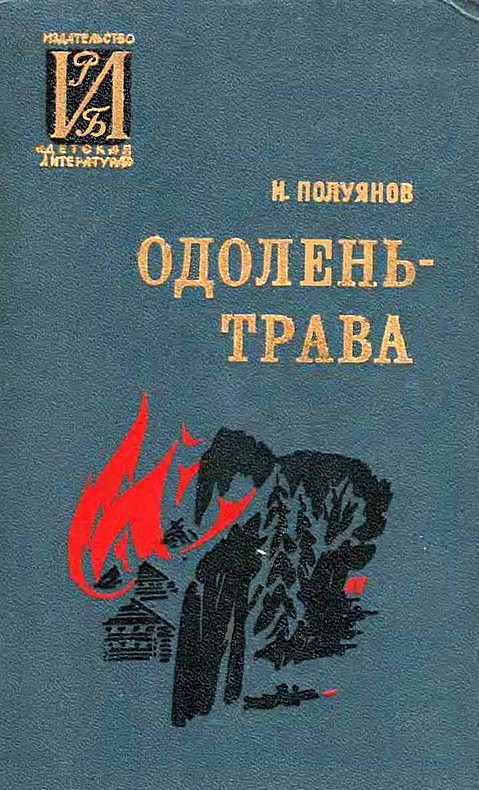
Иван Полуянов
Одолень‑трава
Глава I
Хозяйский верх

Перводан, другодан.
На четыре угадал, –
скачет малышня вокруг Феди, считалку выпевает. Подбил он их до уроков в палочку‑выручалочку сыграть. Простота, порточки холщовые, обставит он вас: спрячется, то‑то его поищете.
А, была не была…
– Принимайте и меня!
Пятьсот курья.
Пономарь Илья,–
озябшие ручонки перебираются по палке, красные, как голубиные лапки.
Заяц, месяц.
Сорвал травку.
Взял не взял…
Ну, Федька, ну, Ноготь‑Коготь, подноровил, мне водить достается. Вырвал палку и швырнул:
– Дурень вон!
Эво ее, эво куда бросил. Полнехоньки полусапожки снегу начерпаю.
Пока я палку искала, попрятались игроки.
А стану ли я на кого время тратить? Мне б сперва Федьку найти и зачуркать.
У поленницы его нет.
– Туда‑сюда загляну – нет и нет.
На кладбище убежал? На липу залез? С него станется, горазд на проделки. С умыслом затеял игру, меня раздразнил, чтобы я за ним побегала.
Липы. Дуплистые, старые. Черные на белом снегу.
Церквушка – бревна в трещинах, мох из пазов торчит.
Липы вековые, усохшие сучья отваливаются, да храм Ильинский при кладбище все равно древней: маковки деревянные, окна зарешеченные. Галка сидит на кресте, так не она ли крест скособочила – в сером‑то платочке монашенка? Похилилась церквуха, вот‑вот сползет под угор и потащится, покряхтывая, ветхая она и убогая, через поле чистое в темный лес.
Подняла я глаза и засмеялась: Парасковья‑пятница, Федька в окне рожицы строит. Не дикое ли место, а? Фундамент на столбах у старопрежнего строения, и с места мне не сойти, коли Федька не через пол в ризницу залез!
По волости подтрунивают: «В Раменье церква – с крыши покат, пол дыроват да поп тороват!» И‑и, как же ж, тороват отец Павел… Скорей себе ноги переломает, чем затруднится заботами о ремонте.
– Федя, вылазь, зачуркала! – крикнула я и все смеялась: – Ужо попу попадешься, на горох тебя поставит голыми коленками – экую‑то орясину.
Белый снег. Черные липы. Синее‑синее небо, словно тронутое влажной испариной. Весна, в этом все дело. Весна, вот и все.
Ребятня‑малышня из‑за поленниц выглядывает: щеки румяные, глазенки горят. Эх, снегирьки‑воробушки, одни у вас заботы – поиграть, побаловаться. Перемены, жаль, коротки…
Коротки перемены для всех, а для меня – еще короче. И в сердце меня кольнуло. С малышней забавляюсь, а до забав ли мне, потешек детских, раз от тяти нет писем с фронта?
* * *
Моя парта возле окна. Вижу, как от заполья Тимоха пробирается, за плечами кузов‑пестерь.
Обоз на тракте. В передних розвальнях хромой Кирьян. Судачит, поди, с возчиками: «Маруся‑девочка, ить я гренадер, под знаменами Брусилова сражался, инвалид… Все мои права, должны Ваську с войны воротить». Всю зиму Кирьян о сыне хлопочет.
Сейчас, поди, в трактире у Пуда‑Деревянного в окошки выглядывают, сам хозяин выплыл на крыльцо – зазывать обозников попить чайку.
В славе трактир села Раменье. Вывеска – «Париж». Граммофон заводят, на столах клеенки.
А каменные лабазы вон чьи? Пудины. У Пуда смолокурни по уезду. Скупает лен, кожу, пушнину. И лавка есть с товарами, и хлеба полны сусеки…
За окном липы. Синица по веткам прыгает, желтая, как одуванчик. Сосульки. Каплет с сосулек. Весна, и сосульки с насморком.
В классе кашель, шорохи. То стукнет грифель, упав на пол, то прошелестит страница книги.
– Чада мои, кто поведает притчу о многотерпеливом Иове? – ворочался отец Павел за кафедрой, оправляя сивую от седины бороду. – Ну‑с, Федор, книгочей‑разумник, шествуй отвечать.
Вскочил Федя – волосья шишом, на витом поясе гребешок.
– Иов, батюшка, в чреве кита спасся!
Не готовил он уроков, с матерью за сеном ездил.
– Тебя бы в кита посадить, оглобля, вельми протяженная! – осерчал отец Павел. – В наказанье явишься ко мне дрова колоть. Нет толку – колоти в елку, орясина!
Вдруг двери настежь. На пороге Викентий Пудиевич – офицерский китель с серебряным Георгием, рука на черной перевязи. Лицо бледное, как мелом выбелено. Дергаются черные брови.
Учитель стремительно шагнул к доске и, ни слова не говоря, сорвал со стены царские портреты.
Отец Павел силился подняться с места, беззвучно разевал мохнатый рот, будто язык у старого отнялся. И мы все замерли, не смели дух перевести. Что и было слышно, то скрип хромовых сапог. Начищенных щегольских сапожек.
Викентий Пудиевич размахнулся. Полетели вон портреты! Жалобно звякнув, раскололось стекло.
– Поздравляю! – обернулся к нам учитель.
Глаза его горели, на щеки вернулся румянец. Из‑под тонкой полоски усов блеснули ровные зубы.
Двери оставались открытыми, тянуло с улицы тающим снегом, звонкой вешней капелью и мокрой корой лип.
– Самодержавие рухнуло! Цель, ради которой лучшие люди России сносили муки и страдания, гибли на виселицах и в тюремных казематах… – голос Викентия Пудиевича зазвенел, – эта цель достигнута. Наша родина – республика. В стране революция.
– А царь?
Кто спросил? Не помню. Поди, у всех одно было на уме: а царь?
– Отрекся! – Викентий Пудиевич засмеялся. – Ребята, вы свободны. С доброй вестью по домам.
Мигом класс опустел.
Отец Павел задержал меня. Сопел одышливо, ворочался за кафедрой, с пегой неопрятной гривы на рясу осыпалась перхоть.
– Революция… А от Григорья Ивановича что есть?
Забирали тятю в солдаты – Григорием был, на войне стал Ивановичем: три креста за храбрость, в унтеры произведен.
– Пока ничего, батюшка, – сказала я.
– Милостив бог, милостив, – пророкотал отец Павел. Сопел одышливо, подпирал щеку ладонью. – Смутные времена подошли, прости, господи, наши прегрешенья. Ну, поглядим, посмотрим… А ты, ноги молодые, наведайся к Пуду Ивановичу, не сыщет ли для пастыря духовного нюхательного табаку. Да послушай, чего там люди‑то говорят, после мне передашь.
Он грузно оборотился назад, где над классной доской раньше красовался портрет царской семьи и пожевал губами:
– Пустое место. Эх‑хе‑хе…
* * *
Борода растрепана, лысина в поту, – с воплями кидался Пудий Иванович на работника Семена, за медвежью силу и медлительность прозванного Потихоней:
– Где пятиалтынный, пустая рожа?
– Карман дыроватый, – разводил Потихоня руками. – Куда серебрушка закатилась, ума не приложу.
Рассчитываясь с обозниками за овес, Семен потерял пятнадцать копеек.
Да за пятиалтынный‑то Пуд удавится. Из церкви идет от заутрени, завидит на дороге конский катыш и то припинает ко двору: в парники пригодится.
– Ты чего тут? – белыми глазами вперился в меня Пудий Иванович. – Хы, с книжками на ремешке… На лешего тебе ученье, коров доить не много надо грамоты.
Уж не пропустит он меня, всегда облает.
И Потихоня в лад хозяину оскалился:
– Тилигенция!
Я шмыгнула мимо них через ворота.
Пудино подворье – целая усадьба. Первый этаж дома каменный, занят лавкой и трактиром. На втором этаже хозяйский верх, жилые горницы, комнаты для проезжающих господ.
Везло из трактира квашеной капустой и треской. Шипела игла, пристукивая по надтреснутой пластинке граммофона, и тяжелый бас выводил:
Вдоль по Питерской,
Да и‑эх, по Тверской‑Ямской!
Возчики пили чай из самовара и переговаривались:
– Дорога рушится. Притаивает. Как там Флегонтов переезд?
– Вода выступила.
– Да, рано нынь наступает распутица.
Есть под лестницей на хозяйский верх темный закуток. На лавку свалены грудой тулупы обозников. Меня за ними и не углядишь.
Ничего, будет у батюшки табак, чихай он на здоровьичко. Не впервой небось мне за табаком бегать. Добьюсь своего. Не в духе Пудий Иванович, а я погожу… Погожу!
Играл граммофон, тарелки в трактире звякали. И сверху разговор доносился.
– Есть притча, мой друг. О джинне и кувшине, – ловила я обрывки разговора. – Выпустили джинна. Чудно и прекрасно! Между тем стихия слепа и разрушительна. Вы упоены победой, в то время как борьба только началась. Уметь предвосхитить события – удел мыслящей личности.
Проезжий, конечно. Слова произносит твердо, буква по букве, и с пришепетыванием. Из архангельских, поди. Там на многих заводах иностранцы хозяйничают.
– Герой войны, человек с влиянием и положением… Поднимитесь выше мелких интересов! Уметь ждать – тоже искусство!
Наверху скрипнули сапоги.
– А вы из чего хлопочете? – послышался голос Викентия Пудиевича. – Революция русская, следовательно, и печали наши, русские.
– Вы или неоткровенны, или заблуждаетесь, считая нас за посторонних. Очень много вложено в ваши дела, чтобы мы удовольствовались позицией сторонних наблюдателей.
– Э‑э… как вас там, простите?
– Петр Леонидович. Люблю, когда по‑русски.
– Даже?
– Даже…
– Откровенность за откровенность! Рассуждаете вы, извините, примитивно, зато с завидной самоуверенностью, точно затычка от кувшина у вас в кармане.
– Вы правы, имею деловое предложение.
Во двор вкатили сани. Колокольчик названивал. Конь, разгоряченный скачкой, храпел и фыркал у крыльца.
Послышался капризный голосок:
– Женя, помоги, дай руку!
Высоковский это с барышней Куприяновой. У, купчиха, повадилась! И чего в ней хорошего? Нос напудрит, жеманится, глазки закатывает перед Викентием Пудиевичем – и папироса на отлете, пальчик‑мизинчик оттопырен. Фу‑ты, ну‑ты, пополам бы ее перервала!
Тянется молодежь к Пахолкову. Редкую неделю не бывает у него уездная интеллигенция: из земской управы, с почты, учительской семинарии.
Споры, разговоры. А то землемер Евгений Высоковский гитару возьмет, телеграфист Михаил Борисович начнет задушевно:
Как дело измены.
Как совесть тирана.
Осенняя ночка темна…
Запрещенная песня. Революционная, вот что.
Под надзором полиции состоял наш учитель! Потому что «социалист».
Он образованный, начитанный. Говорят, книг в горнице у него – шкапы ломятся. Прялок, резных старинных шкатулок, икон старопрежних столько наношено, что на воз не скласть. Неверующий, с попом вечные нелады – зачем ему иконы? Прялки‑пресницы зачем? Не простой он, Викентий Пудиевич, в этом все дело.
* * *
Вокруг отцовской кузницы березы. Белые‑белые. Высокие. Под самые облака.
Бывало, здесь всегда людно: что зимой, что летом. Идут и едут, бывало, со всей волости к Григорью‑мастеру. Отец ремонтировал хозяйственный инвентарь, дроги ладил и сани. Посуду, самовары лудил. Ходики несли ему в починку, и, помню, тикали часы в избе наперебой. Выучился отец часовому делу от ссыльных из Городка, проживших как‑то в селе больше месяца и помогавших в кузне.
Заколочена кузница. Третий год война…
Ворота хлева покосились. Желоба на избе погнили. Нет тяти, в этом все дело.
Дома я застала гостью, тетю Полю с Выселок, с хутора. Принесла, поди, своего Васюту показать. Первенец он у ней, души в сыночке не чает.
– …Травки, они, Густя, разные бывают, – говорила Поля с мамой. – Есть от болезней, есть на приговор от дурного глаза, есть и на добрый путь, встречу добрую. А с домом кому разлука, путина ждет дальняя, тому лучше одолень‑травы ничего нет, все она одолеет.
– Здравствуй, тетя Поля, – с порога поздоровалась я. – Мам, в Питере, знаешь, революция. Царя нет, отрекся, и уроки в училище до единого отменили. А рама… Мамочка, а рама‑то вдребезги! Со всеми портретами!
– О мире ничего не слышно?
Кто о чем, мама – о мире. Чтобы скорее войне конец и тятю домой вернули. Потолкуй вот с ней о новостях.
Недолго дома побыв – Васюту посмотрела, как в пеленках спит, да кусок перехватила всухомятку, – побежала к Тимохе.
Дедко топил печь. Чад в избе, окошек не видно. А Тимоха привычный, трубочку, знай, потягивает.
Бобыль он, когда по неделе, когда дольше пропадает на путиках – ловчих лесных тропах. Старуха померла, одному тоскливо ему: понастроил избушек в суземе[1]там и живет.
– О, гостьюшка! Проходи, честь да место! – закричал Тимоха.
На спицах, вбитых в стену, шкуры развешаны – дедко на путике добыл. Лисьи, алые, как огонь. Рысья, серая в пятнышках. У куничьих шерстка‑то шелковая – ладонь так и льнет.
– Тятя все твой… да‑а. Мастер твой батюшка. По край жизни перед ним я в долгу. Столь дородно отковал капканы, коий год без смены служат. На ноги меня поднял твой тятька. Стрелок из меня праховый. Опять же дробь, порох не по карману. Кабы не капканы – пропал. Кормят меня капканы. Твой батюшка отковал… да‑а!
– Як тебе, дедушка, ненадолго. Дай я тебе воды принесу.
– Полно! Полно‑ка! – вскинулся дедко. – Гостье честь да место!
Но и воды я принесла с колодца, и в избе вымыла, и бельишко старика собрала: скоро будет у нас постирушка, так уж заодно.
– Ну, я пошла, дедушка.
– Пса свово науськаю, – загрозился Тимоха. – Глухарь в печи преет, эт‑то для кого?
Стемнело, огни зажглись по посаду, в избе Тимохи лучина горела: никак старик не отпускал от себя, потчевал жарким из глухаря, развлекал россказнями, бывальщинами лесными.
– Куница – зверек с хитростью. Лиса, та вовсе грамотейка: напетляет, напутает… Чистописанье, да и только! И что там лиса, ежели у мышонка и то свой интерес. Да‑а… да‑а! Высунется мышонок из норки – лапкой туды‑сюды. Шебаршит палыми листьями. Нарочно ведь он, ради своего интереса. Сова либо лиса есть поблизости, то сдуру к нему и сунутся: мы‑де его поймаем. А мышонку того и надо. Перед лисьим носом шмыг в нору – и был таков. Обманет лису‑то мышонок… да‑а. Запросто с носом оставит!
Думала ли я, слушая бывальщины Тимохи, как скоро сведет меня судьба и с ним, и с Полей, деревенской травознайкой, и с Викентием Пахолковым? Думала ли я, что скоро мне понадобится одолень‑трава?
Стояла наша изба в Раменье над обрывом, окнами к угору Кречатьему, к речке Талице с лугом широким, с омутами, где лилии белые, одолень‑трава дивная цветет.
Одолень‑трава, диво дивное укромных заводей! Одолей мне, одолень‑трава, горы высокие, долы низкие, озера синие, леса темные, пеньки и колоды!
Сколько ждало впереди пеньков, сколько колод…
Глава II
Красные банты
Изо всех девчонок в селе Федька‑Федосья выделялась. Сарафан пестрядинный, по подолу оборки, на ногах полусапожки с пуговками. Одна у тяти с мамушкой, и полушалок с кистями на ней, в ушах сережки.
Проходу я ей не давал. Подкараулю и за косу дерну, а то и поколочу. Шибко она мне нравилась.

Зато иной кто к Федьке не подступись. Не то что пальцем, я ногтем зацеплю – не обрадуешься.
Раменье слыло веселой стороной. Как зима, так скрипят обозы. С Каргополя и Пинеги, вон с Мезени, вон к железной дороге за купеческим товаром. До войны и ярмарки собирались в Евдокиин день, весной. Это праздник такой – Евдокия Капельница, по‑простонародному – «Авдотья‑замочи‑подол». Народу съезжалось отовсюду, даже из Вельска и Архангельска.
То‑то, бывало, в торговых рядах приказчики надрываются:
– Селедка соловецкая!
– К нам‑то… к нам, почтенные, самовар купить забыли!
Цыгане медведя водят, в бубны бьют. Ребятишки в ногах у взрослых путаются: кто лижет петушка на палочке, у кого ситный калач.
Да, стояло наше Раменье на бойком месте. Письма, газеты из Питера и Москвы на почту поступали с запозданием недели в две, а с хожалым и проезжим людом новости приходили в Раменье быстрей, поди, чем к уездному телеграфисту Михаилу Борисовичу. Про войну. Про то, как в городах рабочие бастуют.
О царе у нас много не печалились: если революция, так не за мухой же гоняться с обухом?
А мне было жаль…
На портрете солдатик – рыжая бородка. Вытянулся с винтовкой на плече. Не про нее ли рекрута‑молодяшки поют:
Скоро‑скоро нас угонят
Под Варшаву воевать.
Ну какие мы солдаты.
Нам винтовку не поднять.
Он ничего, поднял. Как‑никак царь. Император.
Напротив него малец, щуплый такой, – «Его императорское высочество наследник‑цесаревич Алексей Николаевич». Опять винтовка на плече. Но маленькая. Раз наследник престола, то на плече не пугач какой‑нибудь – пистонами пукать. Всамделишная винтовочка: четыре патрона в магазине, пятый в стволе. Мне бы ее в руки… Да хоть на всю жизнь в караул ставьте под часы!
Жаль мне было тех картинок, и на учителя Пахолкова брала обида: ну чего он? Чего?
После уроков мы часто оставались. Собирались у керосиновой лампы. Готовили домашние задания. Приходил Викентий Пудиевич почитать нам вслух, показать картинки через «волшебный фонарь».
Все мальчишки старались подражать Викентию Пудиевичу. Сапожонки до дыр чистили, постным маслом ваксили, только бы блестели. И ремни носили поверх рубах по‑военному, и картузы лихо заламывали набок. А малыши, те сажей себе усы подрисовывали – точь‑в‑точь такие, как у Викентия Пудиевича.
Помню я карту. Висела она в классе. Карта мира. Бывало, Викентий Пудиевич поведет беседу – словно бы раздвинутся стены, и нет лип под окном, убогой церквухи… Россия! У стен Парижа и на полях Галиции, в предгорьях Эльбруса и польских равнинах болотистых – везде ты, русский победоносный штык!
Эх, мне бы туда! На грудь мне бы крест за храбрость, руку на перевязь, да чтоб хромовые сапожки скрип‑скрип!
* * *
Под печью курицы копошатся. Маняшка ходит, за лавку держится и канючит:
– Ись, ись!
Петруха с полатей вторит:
– Ись!
Ох, подавиться бы вам… Ухватом я выдернул из печи чугун с картошкой, выставил на стол:
– Лопайте да мамке не сказывайте. Картовь ведь для скота.
Корову, овец сохранить бы, сами как‑нибудь перебьемся. Мы – хозяйство справное. Не то что у Овдокши‑Квашненка. Пелагея у Овдокши поставит квашню на печь, чтоб хлебы поднялись, так ребятишки еще тестом до дна выхлебают. Мы вполне зажиточные. Пудов пять и заняли ржицы у Деревянного.
Мать за сеном уехала: вчера не все вывезли. Воды‑холодянки я плеснул в чугун. Авось не заметит, что картошки поубавлено.
Надел тятин пиджак, подпоясываюсь. Петруха сказал:
– Ты как мужик, Федя.
А то нет? Рукавицы сунул за ремень. Мужик не мужик, а добрая половина мужика. В хозяйстве за большого.
Колун оказался на прежнем месте – под приступком, Сам прятал.
Беда, чурка суковатая попалась. Я ее так, я ее этак хрястну через плечо – не поддается. Лупил, хрястал – на, леший, колун застрял, ни взад и ни вперед.
Отец Павел вышел на крыльцо. Заспанный, ряса мятая.
– Экий содом, брат, учинил.
– Полено суковатое…
Зевает батюшка, рот крестит.
– Недогадливый ты, брат, то и мучаешься.
– Догадливый, – смекнул я, – только ваша матушка гораздо догадливей.
– Ну? – хохотнул отец Павел. – Ужли догадливей?
Умеючи, долго ли на колокольню слетать? Колоколов у нас три, язык крайнего прикручен проволокой. Увесистый язык, чистый бас.
Не впервой мне на колокольню лазить, и всегда задержусь хоть минутку. Сверху на Раменье глянуть – словно крылья растут. Приволье‑то, душа радуется. Из края в край волость как на ладони, сразу четыре церкви, купола пузатые, видно вплоть до Богородичного погоста. Рыжие дороги, синие перелески, кровельки избяные под снегом белые… Любо‑любо!
С колокольни я спустился с ношей.
Прицелился, наметился – бух, аккурат мимо обуха.
– Еще раз – бух! Чуть по топорищу колуна не залепил.
– Суслон! – забранился отец Павел. – Руки бы тебе отсохли, доведешь колун, уши надеру.
Бух – опять мимо.
– Дай мне, – заело попа. Принял от меня язык колокола и замахнулся наддать по обуху колуна. – Благослови, господи…
Бум! Грянул бас на все село. Полено аж крякнуло. Поди, от одного звона.
И батюшка крякнул:
– Ну‑ка ишшо, благое ловясь…
А из форточки:
– Получишь благословение, отец мой! Не пастырь духовный, истинно бурсак!
Вот‑вот, не зря я мимо обуха ляпал.
– Это самое, – сконфузился отец Павел. – Застопорилось, это самое, Марфа Ферапонтовна.
– Бурсак! Бурсак! – затворила попадья форточку с треском.
А чего такого? Дьяконица сама своего гундосого на колокольню посылает, когда дровами запасаются.
Мало я поработал, на истопель дров и наколол ли, как позвали в дом. Горница прибрана, пол крашеный, и катанки я снял у порога, босой ступил на половики.
Батюшка толст, попадья еще шире. Они бездетные, меня привечали.
– Щец не плеснуть, Федя? – спросила попадья.
– И я бы откушал, – вставил батюшка.
– Попостись, отец, не похудеешь.
– Матушка, вспомни пророков: «Всяк злак на пользу человека».
– Так то злак, отец мой, а ты постоянно к свинине прилегаешь.
Батюшка с матушкой попрекаются, занятье им привычное, я щи хлебаю и помалкиваю. Маняшку бы с Петрухой за стол: щи наваристые.
После к самовару меня усадили. Марфа Ферапонтовна хлебосольная старуха, не похулишь.
– Революция, – нет‑нет и вздыхала она за чаем. – Нас‑то хоть не тронут, отец мой?
– Мы – сторона, – с блюдца прихлебывал батюшка. – Проповедники слова божьего, в мирское не вникаем. К тому же нынешний переворот, по моему разумению, вершится с позволения начальства: Государственная дума блюдет законность. Ты, матушка, пророков поминай и людям подсказывай: нет власти, аще не от бога.
Отпустили бы они меня домой! Сижу как на иголках. Поди, мама приехала, пособил бы ей сено в сарай сметать и Карюху распряг…
Попадья со стола убрала и занялась вязанием. Отец Павел пересел в кресло.
Опять буду читать? Чего уж… Не своя воля!
На прошлой неделе начали повесть «Хаджи‑Мурат». Граф Лев Толстой – богоотступник, православной церковью проклят, духовным лицам непотребно знаться с его сочинениями – оттого батюшка на глаза жалуется, меня заставляет читать вслух.
Беда, велики сугробы на исходе зимы. Привезла мама сено, умаялась, помочь некому. И пошел я по книжке барабанить, не соблюдая ни точек, ни запятых: авось скорей домой попаду.
– Что бубнишь, ровно дьячок гугнивый? – зыкнул батюшка. – Чти с почтением, оглобля: проза перед тобой.
– «…Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе, – посбавил я прыть. – Еще пуля попала Хаджи‑Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает… Он собрал последние силы, поднялся из‑за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека, и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что им казалось мертвым телом, вдруг зашевелилось».
Отец Павел привстал, опираясь на подлокотники. Мотал лохматой гривой: «Зашевелилось»! Опустился обратно в кресло и рявкнул:
– Двигай дальше, не томи.
Матушка вздрогнула за пяльцами:
– Паша, непутево рыкаешь, экое же голосище.
– Война, – не обращал на нее внимания отец Павел, креслице под ним трещало. – Война, как она есть, Федя. Небось сабли на уме, Кузьма Крючков с пикой. Вникай, какая она взаправду‑то, война.
Воспользовавшись заминкой, Марфа Ферапонтовна спросила:
– А кто такие безбожники, отец мой, что церкви грозят закрыть?
– Большевики, – отозвался батюшка и осерчал, насупился гневно – Вот‑вот, вечно ты настроение испортишь, попадья.
* * *
Ветер.
Шагаю посадом, под валенками хрупает снег, и ноги сами несут к Пудиному подворью, – всеми окнами горит хозяйский верх.
Людно было у лабазов.
Цигарки вспыхивают. Женщины в стороне от мужиков стоят.
Шум, говор.
– Мужики в России, поди, бар под ноготь берут, как в девятьсот пятом?
– У нас имений нету.
– А кой прок в революции, если так?
– Начинали, тебя, Овдокша, не спросились.
– Чо? – суетился невзрачный, в растрепанной шапке Овдокша. – У нас есть, кого под ноготь! Пуд‑Деревянный… Чо? Мало ему тысячных капиталов, за войну сколь он земли и покосов захапал. Чем барину уступит? Раздел надоть по справедливости…
Кто‑то нахлобучил Овдокше шапку на глаза:
– Земли тебе. Квашня? На Палашке своей, что ли, пахать выедешь?
Саней, саней‑то во дворе: эти – с медвежьей полстью – врача из больницы; вон вятские, задок расписной, – эти землемера Высоковского; гнутые, лаковые – начальника почты…
– Дорогу! Дорогу ослобоните! – растворил ворота Сеня‑Потихоня, поднимая фонарь.
Выкатился крытый, с кожаным верхом, плетеный возок. Ездок сам за кучера – дородный, бритый, трубка в зубах.
– Доброго пути, – поклонился Потихоня.
Сердитый ездок подхлестнул лошадь. На повороте санки закинуло, однако они тут же выправились, встали на полозья и понеслись.
– Чуть не задавил! – плевались бабы у ворот.
Широкими окнами светит верхний, хозяйский, этаж.
Музыка, гульба.
– Сам! Сам! – послышалось вдруг.
Все придвинулись к крыльцу. Ведя под локотки незнакомых господ в сюртуках и накрахмаленных манишках, сверху по лестнице спускался Пудий Иванович. Мелькали женские головы с высокими прическами, бороды, шуршал шелк.
– Граждане! – у Пудия Ивановича полыхнул на поддевке красный бант. – Господа граждане! Поперек путей встревал Миколаша, царишка‑последыш. Своротили! В Европу выходим, – вперед под локотки выставлял он своих спутников. – Господа доверенные заграничных фирм… Неумытые мы, в назьме по колено, а не брезгает нами Европа! Капиталы идут!.. Ставлю на общество ведро вина… Со светлым праздничком! Народ, пей‑гуляй! Бабам – три фунта изюму!
Толпа подхлынула. Пудия Ивановича подняли, на руках понесли в трактир, и за сапог, лакированный сапог благодетеля, держался Овдокша‑Квашненок.
Глава III
Тятина жилетка
Верстах в двух от Раменья была водяная мельница, вековуха‑развалюха. Мельник как раз ей под стать. Брови белые, лохматые на сморщенном коричневом личике. В усах крошки хлебные. Борода запутанная, сивая в прозелень: бородой Пахом ребятишек пугал, рассказывая, что в ней завелись мыши. Мосластой, оплетенной синими венами ручищей как полезет в бороду: «Эво они, ш‑шекотят!» – ребятня с визгом от него врассыпную.
Брали у мельницы уклейки, красноперые голавли. Пестрые пескари и малявки смирно цеплялись на самодельные крючки ребячьих немудрящих снастей. Часто мы бегали на мельницу. Как ни приди, утром ли до свету, поздно ли вечером, Пахом при деле:, лопатой ковыряется либо топором тюкает на своей развалюхе.
– Кабы мне плотину… Ить ишшо могу робить‑то.
Дыра на дыре – плотина. Чинил, латал ее дедко Пахом. Прахом пошли труды: водопольем нынче сорвало запруду, мельницу по бревнышку разворочало.
Часто мне приходила на ум Пахомова мельница: и в нашем хозяйстве одни прорехи.
Под снегом избы и поля вроде все одинаковы. Весной снег капелью сбежал, ручьями стек, и начало объявляться: кровля на хлеву – как решето, вовсе прохудилась; озимь вымокла, везде в поле плеши; изгороди сугробами повалило, на земле лежат целые прясла…
За что взяться, с какого краю к делу подступиться?
День колья и жерди я рубил.
День тес перестилал на хлеву. Да желоб надо было менять, раз старый погнил. Тут Манюшка заканючила: сапожонок ей почини. Петька пристал: сделай да сделай ему мельницу из палочек, чтобы на ручье поставить.
Вечером мамка на порог – изгородь она городила, – а у нас хлев раскрыт, стропила наружу. Петя бегает с меленкой из лучинок, Маняшка по избе скачет, проверяет, ладно ли у сапожонка подметка прибита. Скот по воле бродит, и Карюха в стойле стоит непоеная.

– Не избу ли я перепутала? К Овдокше‑Квашне попала? – Голос у мамы сорвался на крик. – Да что это такое на свете делается! Бьюсь я как рыба об лед. Свету белого не вижу… А что вы со мной творите, милые дети?