Членения пространства и времени в Европе
оказались перед лицом нехватки белого металла. Пострадал тогда экономический порядок во всем мире, от Китая до обеих Америк. В центре этого мира находилась Англия, и нельзя отрицать, что и она пострадала, невзирая на свою победу, что ей потребуются годы, чтобы перевести дыхание. Но она захватила первое место, которое у нее никто не оспаривал (Голландия исчезла с горизонта), которое никто не мог у нее отнять.
 А 1973 —1974 г.? — спросите вы. Идет ли речь о кратком конъюнктурном кризисе, как, видимо, полагает большинство экономистов? Или же нам предоставлена привилегия (впрочем, незавидная) собственными глазами увидеть, как столетие качнется вниз? И тогда политики краткосрочных [циклов], восхитительно точные, все эти князья политики и экономические эксперты, рискуют вотще пытаться излечить недуг, окончание которого не суждено будет еще увидеть детям наших детей. Современность нам подмигивает, настоятельно побуждая нас задать этот вопрос самим себе. Но до того, как уступить этому требованию, требуется раскрыть скобки.
А 1973 —1974 г.? — спросите вы. Идет ли речь о кратком конъюнктурном кризисе, как, видимо, полагает большинство экономистов? Или же нам предоставлена привилегия (впрочем, незавидная) собственными глазами увидеть, как столетие качнется вниз? И тогда политики краткосрочных [циклов], восхитительно точные, все эти князья политики и экономические эксперты, рискуют вотще пытаться излечить недуг, окончание которого не суждено будет еще увидеть детям наших детей. Современность нам подмигивает, настоятельно побуждая нас задать этот вопрос самим себе. Но до того, как уступить этому требованию, требуется раскрыть скобки.
ЦИКЛ КОНДРАТЬЕВА И ВЕКОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Вековая тенденция несет на своем гребне, как мы уже говорили, движения, не обладающие ни ее выносливостью, ни ее долговечностью, ни ее незаметностью. Эти движения выплескиваются вверх по вертикали, их легко увидеть, они заставляют себя увидеть. Повседневная жизнь, как и вчера, пронизана такими оживленными движениями, которые следовало бы все прибавить к trend, дабы оценить их совокупность. Но для наших целей мы ограничимся тем, что введем только респектабельные циклы Кондратьева, которые тоже отличались выносливостью, ибо любому из них соответствуют в общем добрых полвека—время деятельности двух поколений, одного при хорошей конъюнктуре, другого при плохой. Если сложить два этих движения—вековую тенденцию и цикл Кондратьева, — то мы будем располагать «музыкой» долгосрочной конъюнктуры, звучащей на два голоса. Это усложняет наше первичное наблюдение, но и подкрепляет его, тем более что циклы Кондратьева в противоположность тому, что не раз утверждали, появились на европейском театре не в 1791 г., а на несколько столетий раньше.
Добавляя свои движения к подъему или спаду вековой тенденции, циклы Кондратьева усиливали или смягчали ее. В половине случаев вершина цикла Кондратьева совпадала с вершиной вековой тенденции. Так было в 1817 г. Так было (если я не заблуждаюсь) в 1973 — 1974 гг. и, может быть, в 1650 г. Между 1817 и 1971 гг. имелись, по-видимому, две независимые вершины циклов Кондратьева: в 1873 и 1929 гг, Если бы эти данные не вызывали критики, что, конечно, не так, мы сказали бы, что в 1929 г. разрыв, лежавший у истоков всемирного кризиса, был всего лишь поворотом простого цикла Кондратьева, переломом его восходящей фазы, начавшейся с 1896 г., прошедшей через последние годы XIX в., первые годы века двадцато-
Мир-экономика перед лицом членения времени
 го, первую мировую войну и десять мрачноватых послевоенных лет, чтобы достичь вершины в 1929 г. Поворот 1929 — 1930 гг. был столь неожидан для наблюдателей и специалистов (последние пребывали в еще большем изумлении, чем первые), что были предприняты усилия, чтобы его понять, и книга Франсуа Симиана остается одним из лучших доказательств этих усилий.
го, первую мировую войну и десять мрачноватых послевоенных лет, чтобы достичь вершины в 1929 г. Поворот 1929 — 1930 гг. был столь неожидан для наблюдателей и специалистов (последние пребывали в еще большем изумлении, чем первые), что были предприняты усилия, чтобы его понять, и книга Франсуа Симиана остается одним из лучших доказательств этих усилий.
В 1973—1974 гг. наблюдался поворот нового цикла Кондратьева, исходным пунктом которого был приблизительно 1945 г. (т. е. восходящая фаза протяженностью примерно в четверть века, в соответствии с нормой); но не было ли здесь сверх того, как и в 1817 г., поворота и векового движения и, следовательно, двойного поворота? Я склонен верить в это, хотя никаких тому доказательств нет. И если книга эта когда-нибудь попадет в руки читателя, котрый будет жить после 2000 г., эти несколько строк, возможно, позабавят его, как забавлялся и я (с не вполне чистой совестью) какой-нибудь глупостью, вышедшей из-под пера Жан-Батиста Сэ.
| 132 Dupriez L.-H. Les implications de I'emballement mondial des prix depuis 1972. — «Recherches economiques de Louvain», septembre 1977. |
Двойной или простой, но поворот 1973—1974 гг. открыл продолжительный спад. Те, кто пережил кризис 1929—1930 гг., сохранили воспоминания о неожиданном урагане, без всякого предварительного этапа и сравнительно кратком. Современный кризис, который не отпускает нас, более грозен, как если бы ему не удавалось показать свой действительный облик, найти для себя название и модель, которая бы его объяснила, а нас успокоила. Это не ураган, а скорее наводнение с медленным и внушающим отчаяние подъемом вод, или небо, упорно затянутое свинцовыми тучами. Под вопрос поставлены все основы экономической жизни, все уроки опыта, нынешние и прошлые. Ибо, как это ни парадоксально, при наблюдающемся спаде — замедлении производства, безработице — цены продолжают стремительно расти в противоположность прежним правилам. Окрестить это явление стагфляцией отнюдь не значит его объяснить. Государство, которое везде старалось играть роль покровителя, которое совладало с краткосрочными кризисами, следуя урокам Кейнса, и считало себя защищенным от повторения таких катастроф, как катастрофа 1929 г., — не оно ли ответственно за странности кризиса в силу собственных своих усилий? Или же сопротивление и бдительность рабочих создали плотину, объсняющую упорный подъем цен и заработной платы наперекор всему? Леон Дюприе132 поставил эти вопросы, но не смог на них ответить. Последнее слово ускользает от нас, а вместе с ним—и точное значение таких долговременных циклов, которые, по-видимому, подчиняются определенным, неведомым нам законам или правилам в виде тенденции.
ОБЪЯСНИМА ЛИ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ КОНЪЮНКТУРА?
Экономисты и историки констатируют движения конъюнктуры, описывают их, проявляя внимание к тому, как они накладываются друг на друга, подобно тому как морской прилив не-
Членения пространства и времени в Европе
-экономика перед лицом членения времени



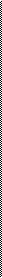 сет на гребне своего собственного движения движение волн (как принято говорить после Франсуа Симиана); они внимательны также и к многочисленным последствиям таких движений. И их всегда удивляют размах и бесконечная регулярность этих движений.
сет на гребне своего собственного движения движение волн (как принято говорить после Франсуа Симиана); они внимательны также и к многочисленным последствиям таких движений. И их всегда удивляют размах и бесконечная регулярность этих движений.
Но и те и другие никогда не пробовали объяснить, почему движения эти берут верх, развиваются и возобновляются. Единственное замечание в этом плане касалось колебаний цикла Жюглара, которые будто бы связаны с пятнами на солнце! В такую тесную корреляцию никто не поверит. А как объяснить прочие циклы? Не только те, которые определялись колебаниями цен, но и те, что относились к промышленному производству (см. кривые У. Хоффмана), или цикл бразильского золота в XVIII в., или двухсотлетний цикл мексиканского серебра (1696—1900 гг.), колебания торговли севильского порта во времена, когда ритм последней совпадал с ритмом всей экономики приатлантического региона. Не говоря уже о долговременных движениях населения, которые соответствовали колебаниям векового цикла и, вне сомнения, были в такой же мере его следствиями, как и причинами. Не говоря о притоке драгоценных металлов, над которым столько трудились историки и экономисты. Принимая во внимание плотность действий и взаимодействий, здесь тоже надлежит остерегаться слишком упрощенного детерминизма: количественная теория играла свою роль, но вслед за Пьером Виларом я полагаю, что всякий экономический подъем может создать свои деньги и свою
133 См.: «Annales систему Кредита.
e.s.c», 1961,р. 115. Чтобы выбраться из этой невозможной проблемы—я не
говорю уж разрешить ее,—следует мысленно обратиться к колебательным и периодическим движениям элементарной физики. Всякий раз движение есть следствие внешнего толчка и реакции тела, которое толчок заставляет колебаться, будь то веревка или полоска... Струны скрипки выбрируют под смычком. Естественно, одна вибрация может вызвать другую: воинское подразделение, идущее в ногу, вступив на мост, должно отказаться от единого ритма, иначе мост в свою очередь станет колебаться и при определенных условиях рискует разломиться, как стеклянный. Вообразим же во всем комплексе конъюнктуры некое движение, дающее толчок другому движению, затем еще одному и т. д.
Самый важный толчок—это, несомненно, тот, который дают внешние, экзогенные причины. Как говорит Джузеппе Паломба, экономика Старого порядка действовала в рамках календарных ограничений, что означало тысячи обязанностей, тысячи толчков из-за урожая, само собой разумеется; но если взять один только пример: разве не была зима по преимуществу сезоном работы ремесленника? Не зависели от воли людей и властей, которые ими управляли, также годы изобилия и неурожаев, колебания рынка, способные распространяться, флуктуации торговли на дальние расстояния и последствия, какие эта торговля влечет за собой для «внутренних» цен: любая встреча внешнего и внутреннего была либо брешью, либо раной.
134 Congres de Stockholm,
1960, p. 167.
135 Labrousse P. La Crise
de I'iconomie franfaise a
la fin de I'Ancien Regime
et аи debut de la
Revolution. 1944,
p. vra—rx.
138 Kula W. Theorie economique du systeme feodal..., p. 84.
137 Morineau M. Gazettes
hollandaises et trisors
americains. — «Anuario de
historia economica
у social», 1969, p. 333.
138 Vilar P.
L'Industrialisation en Europe аи XIX' siecle. — Colloque de Lyon, 1970, p. 331.
Но в такой же степени, как внешний толчок, важна была и среда, в которой он осуществлялся: каково то тело (слово не слишком подходящее), которое, будучи средой распространения движения, навязывает последнему свой период? У меня сохранились давние воспоминания (1950 г.) о беседе с Юрбеном, профессором экономики в Лувенском университете, чьей постоянной заботой было связать колебание цен с той площадью или с тем объемом, каких оно касалось. По его мнению, сравнимы были только цены на одной и той же вибрирующей поверхности. То, что колебалось под воздействием цен, это были на самом деле предварительно сложившиеся сети, образовывавшие, на мой взгляд, по преимуществу вибрирующие поверхности, структуры цен (в смысле, который определенно не вполне таков, какой придает этому слову Леон Дюприе). Читатель хорошо видит, к какому утверждению я приближаюсь: мир-экономика—это колеблющаяся поверхность самых больших размеров, та, что не только воспринимает конъюнктуру, но и создает ее на определенной глубине, на определенном уровне. Во всяком случае, именно она, эта поверхность, создает единство цен на огромных пространствах, подобно тому как артериальная система распределяет кровь по всему живому организму. Она сама по себе есть структура. Тем не менее остается без решения поставленная задача: узнать, служит или нет вековая тенденция, невзирая на совпадения, которые я отмечал, добротным индикатором такой поверхности улавливания и отражения. Как я полагаю, вековое колебание, необъяснимое без учета громадной, но ограниченной площади мира-экономики, открывало, прерывало и вновь открывало сложные потоки конъюнктуры.
Я не уверен, что сегодня историческое или экономическое исследование направлено на эти долгосрочного значения проблемы. Пьер Леон сказал в недавнем прошлом: «Историки чаще всего оставались безразличны к длительной протяженности» 13*. Лабрус даже писал во вступлении к своей диссертации: «Мы отказались от какого бы то ни было объяснения движения длительной протяженности»135. Для интерцикла вековой тенденцией, конечно, можно пренебречь. Что до Витольда Кули, то он проявляет внимание к долговременным движениям, «которые своим кумулятивным действием вызывают трансформации структурные»136, но он почти одинок. Мишель Морино, находящийся на другом фланге, требует, чтобы «прожитому времени возвратили его вкус, его плотность и его событийную ткань»137. А Пьер Вилар—чтобы не упускали из виду краткосрочные циклы, ибо это означало бы «систематически скрывать классовые столкновения, классовую борьбу; при капиталистическом строе, как и в экономике Старого порядка, они выявляются в краткосрочных циклах»138. Не стоит выступать на чьей-либо стороне в подобной дискуссии—дискуссии ложной, потому что конъюнктуру следует изучать во всей ее глубине, и было бы достойно сожаления не искать ее границы, с одной стороны, в событийных проявлениях и в краткосрочных циклах, а с другой стороны—в долговременной протяженности и в вековых движениях. Краткое время и время длительное сосу-
 Членения пространства и времени в Европе
Членения пространства и времени в Европе
Мир-экономика перед лицом членения времени
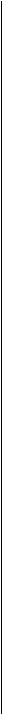 | |||||
 | |||||
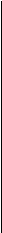 | |||||

|
В XVI в. богатство
означало накопление
мешков с зерном.
«Королевские
песнопения
о зачатии». Париж,
Национальная
библиотека (Ms. fr.
1537).
шествуют и неразделимы. Кейнс, построивший свою теорию на краткосрочном времени, сделал остроумный выпад, который часто повторяли другие: «В длительной протяженности все мы будем покойниками»; если оставить в стороне юмор, то значение это банально и абсурдно. Ибо мы в одно и то же время живем и в кратком времени, и в длительном времени. Язык, на котором я говорю, ремесло, которым занимаюсь, мои верования, окружающую меня людскую среду—все это я уна-
139 Robinson J. Heresies
economiques. 1972, p. 50.
140 Beyssade P. La
Philosophie premiere de
Descartes
(машинописный текст), p.lll.
следовал; оно существовало до меня и будет существовать после меня. Я также не согласен и с Джоан Робинсон, которая полагает, будто краткосрочный период—«не временная протяженность, но определенное состояние дел»139. Чем становится при таком подходе «долговременный период»? Время оказалось бы только тем, что в нем содержится, тем, что его населяет. Возможно ли это? Бейссад более благоразумен, утверждая, что время «ни невинно, ни безобидно» 14°; оно если и не создает свое содержание, то воздействует на него, придает ему форму и реальность.
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Чтобы завершить настоящую главу, которая задумана только как теоретическое введение или, если вам угодно, опыт формирования проблематики, следовало бы шаг за шагом построить типологию вековых периодов — тех, что двигались вверх, тех, что шли вниз, и кризисы, какие отмечали высшие точки этих периодов. Ни ретроспективная экономика, ни самые рискованные исторические исследования не послужат нам поддержкой в такой операции. А сверх того вполне возможно, что последующие исследования попросту оставят в стороне эти проблемы, которые я пытаюсь сформулировать.
Во всех трех случаях (подъем, кризис, спад) нам потребовалось бы производить классификацию и членение в соответствии с тремя кругами по Валлерстайну, что уже дает нам девять разных случаев, а так как мы различаем четыре социальных множества —экономику, политику, культуру, социальную иерархию,—то мы приходим уже к тридцати шести случаям. Наконец, надобно предвидеть, что правильная типология может потихоньку от нас ускользнуть; если бы мы располагали пригодными данными, нам пришлось бы еще делать различия в соответствии с очень многочисленными частными случаями. Соблюдая осторожность, мы останемся в рамках общих положений, сколь бы спорными и хрупкими они ни были.
В таком случае будем упрощать без излишних угрызений совести. Кризисы рассмотрены в предшествовавших строках, Они отмечают начало распада структуры: связный мир-система, который спокойно развивался, приходит в упадок или завершает свой упадок, и со многими отсрочками и промедлениями рождается другая система. Такой разрыв представляется как результат накопления случайностей, нарушений, искажений. И именно эти переходы от одной системы к другой я попробую осветить в последующих главах настоящего тома.
Если видишь перед собой вековые подъемы, то определенно понимаешь, что экономика и социальный порядок, культура, государство тогда явно процветают. Дж. Хэмилтон, споря со мной во время наших очень давних встреч в Симанкасе (1927 г.), имел обыкновение говорить: «В XVI в. любая рана заживляется, любая неисправность исправляется, любое отступление компенсируется» — и так во всех сферах: производство в общем в хорошем состоянии, государство располагает средствами,
Членения пространства и зремени в Европе
Мир-экономика перед лицом членения времени


 чтобы действовать, общество дает расти своей немногочисленной аристократии, культура движется своим путем, экономика, которую подкрепляет рост народонаселения, усложняет свои кругообороты. Последние, применяясь к росту разделения труда, благоприятствуют подъему цен; денежные резервы возрастают, капиталы накопляются. Кроме того, всякий подъем имеет охранительный смысл: он защищает существующую систему, он благоприятствует всем экономикам. Именно во время таких подъемов были возможны объединения вокруг нескольких центров, скажем, в XVI в.—раздел [рынков] между Венецией, Антверпеном и Генуей.
чтобы действовать, общество дает расти своей немногочисленной аристократии, культура движется своим путем, экономика, которую подкрепляет рост народонаселения, усложняет свои кругообороты. Последние, применяясь к росту разделения труда, благоприятствуют подъему цен; денежные резервы возрастают, капиталы накопляются. Кроме того, всякий подъем имеет охранительный смысл: он защищает существующую систему, он благоприятствует всем экономикам. Именно во время таких подъемов были возможны объединения вокруг нескольких центров, скажем, в XVI в.—раздел [рынков] между Венецией, Антверпеном и Генуей.
При продолжительных и упорных спадах картина меняется: здоровые экономики обнаруживаются только в центре мира-экономики. Наблюдается отступление, концентрация к выгоде единственного полюса; государства делаются задиристыми, агрессивными. Отсюда вытекает «закон» Фрэнка Спунера относительно Франции, которую-де экономика на подъеме имела тенденцию рассредоточить, разделить на враждебные части (во времена Религиозных войн), тогда как неблагоприятная конъюнктура будто бы сближала разные части к выгоде правительства, сильного по видимости. Но действителен ли такой закон для всего прошлого Франции и действителен ли он для прочих государств? Что касается высшего общества, то в плохие для экономики времена оно боролось, окружало себя заслонами, ограничивало свою численность (поздние браки, чрезмерная эмиграция молодежи, раннее использование противозачаточных средств, как то было в Женеве в XVII в.). Но культура тогда ведет себя самым странным образом: если она (как и государство) энергично вмешивается в жизнь во время таких долгих спадов, то происходит это, вне сомнения, потому, что одно из ее призваний—«затыкать» пустоты и бреши всего социального множества (культура — не «опиум ли она для народа»?). И не потому ли также, что культурная активность—наименее дорогостоящая из всех видов деятельности? Заметьте, что испанский Золотой век утверждался тогда, когда уже наблюдался упадок Испании, путем концентрации культуры в столице; Золотой век — это прежде всего блеск Мадрида, его двора, его театров. И сколько было при расточительном режиме графа, а затем герцога Оливареса поспешных построек, можно сказать, почти что по дешевке! Я не знаю, пригодно ли такое же объяснение для века Людовика XIV. Но в конечном счете я констатирую, что вековые спады способствовали культурным взрывам или тому, что мы рассматриваем как культурные взрывы. После 1600 г.—цветение итальянской осени в Венеции, Болонье, Риме. После 1815 г. — романтизм, воспламенивший старую уже Европу.
Эти слишком поспешно высказанные утверждения ставят по меньшей мере обычные проблемы, но, на мой взгляд, не главную из проблем. Не оговорив это в должной мере, мы выдвигали на первый план прогресс или спад на верхнем уровне жизни общества, культуру (культуру элиты), социальный строй (в применении к привилегированному слою у вершины пирамиды), государство на уровне правительства, производство в од-
'41 Hamilton E.J. American Treasure and the Rise of
Capitalism.- — «Economica», novembre 1929, p. 355—356. i" Brown Ph., Hopkins S.V. Seven Centuries of Building Wages. — «Economica», aout 1955, p. 195—206. 143 Seignobos Ch. Histoire sincere de la nation frangaise. 1933.
ной лишь сфере обращения, которое служило двигателем лишь для части этого производства, экономику в самых развитых зонах. Как все историки, мы самым естественным образом и не желая того оставили в стороне участь самых многочисленных, огромного большинства живущих. Как же в целом чувствовали себя эти массы при балансировании вековых приливов и отливов?
Как ни парадоксально, но скорее им бывало плохо, когда все в соответствии с диагнозом экономики шло наилучшим образом, когда подъем производства делал ощутимыми свои результаты, увеличивал число людей, но возлагал возрастающие тяготы на разные миры деловой активности и труда. Как показал это Дж. Хэмилтон, тогда образовывалась пропасть между ценами и заработной платой, которая отставала от них141. Если обратиться к работам Жана Фурастье, Рене Грандами, Вильгельма Абеля, а еще более—к публикациям Фелпса Брауна и Шейлы Хопкинс, то становится ясно, что тогда наблюдалось снижение реальной заработной платы 142. Прогресс в верхних сферах и увеличение экономического потенциала оплачивались, таким образом, страданием массы людей, число которых возрастало в таком же темпе, как производство, или даже более быстро. И быть может, как раз тогда, когда это увеличение численности людей, их обменов, их усилий более не компенсировалось прогрессом производительности труда, все замедлялось, наступал кризис и начиналось движение в обратном направлении, спад. Странно то, что «отлив» в надстройке влек за собой улучшение жизни масс, что реальная заработная плата вновь начинала расти. Таким-то образом и пришелся на 1350—1450 гг., на самый мрачный период европейского упадка, своего рода «Золотой век» в повседневной жизни простого народа.
В такой исторической перспективе, которую во времена Шарля Сеньобоса143 определили бы как историю «откровенную», самым крупным событием, событием долгосрочным, с громадными последствиями, фактически решающим переломом, было то, что с середины XIX в., посреди самого движения промышленной революции, тот длительный подъем, какой тогда закрепился, не повлек за собой никакого глубокого ухудшения общего благосостояния, но вызвал рост дохода на душу населения. Может быть, высказать суждение об этой проблеме тоже нелегко. Но подумайте о том, что огромный и резкий подъем производительности труда, обязанный своим происхождением машине, разом чрезмерно повысил потолок возможностей. Именно внутри этого нового мира на протяжении более столетия беспрецедентный рост населения мира сопровождался увеличением дохода на душу населения. По всей видимости, социальный подъем изменился в своих характеристиках. Но что же получится из попятного движения, настойчиво начинающегося с семидесятых годов нашего столетия?
В прошлом благосостояние простого народа, сопровождавшее вековые спады, всегда оплачивалось огромными предварительными жертвами — самое малое миллионами умерших в 1350 г.; серьезным демографическим застоем в XVII в. Имен-
Членения пространства и времени в Европе


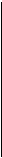
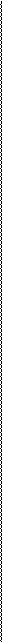 но это уменьшение численности людей и ослабление экономического напряжения стали основой явного улучшения для выживших, для тех, кого пощадили мор или спад. Современный кризис предстает перед нами не с такими симптомами: продолжается значительный демографический подъем в мировом масштабе, темпы производства замедляются, укореняется безработица — и тем не менее попутный ветер дует в паруса инфляции. А тогда откуда бы могло наступить облегчение для масс? Никто не пожалеет о том, что лекарство (в лошадиных дозах) былых времен—голодовки и эпидемии — было устранено прогрессом земледелия и медицины; плюс к этому наблюдается определенная солидарность, перераспределяющая продовольственные ресурсы мира за неимением иного. Но, невзирая на эту видимость и на тенденцию современного мира непоколебимо верить в постоянный рост, спросите себя, не ставится ли нынешняя проблема, с необходимыми поправками, в прежних выражениях? Не достиг ли (или не превзошел ли) человеческий прогресс уровня возможного, щедро увеличенного в прошлом веке промышленной революцией? Может ли число людей возрастать без катастрофических результатов, по крайней мере временно, пока какая-то новая революция, например энергетическая, не изменит условия задачи?
но это уменьшение численности людей и ослабление экономического напряжения стали основой явного улучшения для выживших, для тех, кого пощадили мор или спад. Современный кризис предстает перед нами не с такими симптомами: продолжается значительный демографический подъем в мировом масштабе, темпы производства замедляются, укореняется безработица — и тем не менее попутный ветер дует в паруса инфляции. А тогда откуда бы могло наступить облегчение для масс? Никто не пожалеет о том, что лекарство (в лошадиных дозах) былых времен—голодовки и эпидемии — было устранено прогрессом земледелия и медицины; плюс к этому наблюдается определенная солидарность, перераспределяющая продовольственные ресурсы мира за неимением иного. Но, невзирая на эту видимость и на тенденцию современного мира непоколебимо верить в постоянный рост, спросите себя, не ставится ли нынешняя проблема, с необходимыми поправками, в прежних выражениях? Не достиг ли (или не превзошел ли) человеческий прогресс уровня возможного, щедро увеличенного в прошлом веке промышленной революцией? Может ли число людей возрастать без катастрофических результатов, по крайней мере временно, пока какая-то новая революция, например энергетическая, не изменит условия задачи?
Глава 2
1 В основе этих и предшествующих замечаний лежит работа Поля Адана (машинописный текст): Adam P. L'Origine des grandes cites maritimes independantes el la nature du premier capitalisme commercial, p. 13.
СТАРИННЫЕ ЭКОНОМИКИ С ДОМИНИРУЮЩИМ
ГОРОДСКИМ
ЦЕНТРОМ В ЕВРОПЕ:
ДО И ПОСЛЕ ВЕНЕЦИИ
Европейский мир-экономика долго будет ограничиваться узким пространством города-государства, почти или совершенно свободного в своих действиях, ограниченного целиком или почти целиком только своими силами. Чтобы уравновесить свои слабости, он зачастую будет использовать те распри, что противопоставляли друг другу разные территории и человеческие группы; будет натравливать одних на других; будет опираться на десятки городов или государств, или экономик, которые его обслуживали. Ибо обслуживать его было для них либо вопросом заинтересованности, либо обязанностью.
Невозможно не задаться вопросом, как могли быть навязаны и сохраняться такие сферы доминированиия с их огромным радиусом, строившиеся на основе столь незначительных по размеру центров. Тем более что их власть непрестанно оспаривалась изнутри, за нею внимательно следило жестко управляемое, часто «пролетаризированное» население. Все происходило к выгоде нескольких всем известных семейств, служивших естественной мишенью для разного рода недовольства и удерживавших всю полноту власти (но в один прекрасный день они могли ее и утратить). К тому же эти семейства раздирали взаимные распри х.
Верно, что охватывавший эти города мир-экономика сам по себе был еще непрочной сетью. И не менее верно, что если сеть эта рвалась, то прореха могла быть заделана без особых трудностей. То было вопросом бдительности и сознательно примененной силы. Но разве иначе будет действовать позднее Англия Пальмерстона или Дизраэли? Чтобы удерживать такие слишком обширные пространства, достаточно было обладать опорными пунктами (такими, как Кандия [Крит], захваченная Венецией в 1204 г., Корфу — в1383 г., Кипр — в 1489 г. или же Гибралтар, неожиданно взятый англичанами в 1704 г., Мальта, занятая ими же в 1800 г.); довольно было установить удобные монополии, которые поддерживали так, как мы ухаживем за нашими машинами. И монополии эти довольно часто функционировали сами собой, за счет достигнутого ускорения, хотя они, конечно же, оспаривались городами-соперниками, которые бывали в состоянии при случае создать немалые трудности.
Старинные -экономики с доминирующим городским центром: до и после Венеции 86
Старинные экономики с доминирующим городским центром: до и после Венеции
 |  | ||||||
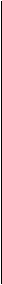 | |||||||
 |
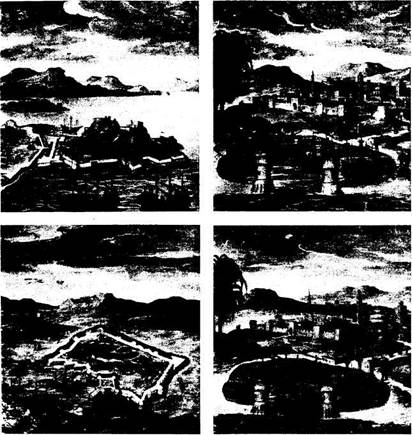
|
Четыре изображения Венецианской империи. Слева вверху— Корфу, ключ к Адриатическому морю; вверху справа — Кандия (Крит), которую Венеция будет удерживать до 1669 г.; внизу слева — Фамагуста на острове Кипр, утерянная в 1571 г.; внизу справа — Александрия, бывшая вратами Египта и торговли пряностями. Эти довольно фантастические
И тем не менее не слишком ли внимателен историк к таким внешним напряженностям, к подчеркивающим их событиям и эпизодам, а также к внутренним происшествиям — к тем политическим схваткам и к тем социальным движениям, что так сильно окрашивали внутреннюю историю городских центров? Ведь это факт, что внешне главенство таких городов и (внутри них) главенство богатых и могущественных были длительно существовавшими реальностями; что эволюции, необходимой для здравия капитала, никогда не мешали в этих тесных мирках ни напряженности, ни борьба за заработную плату и за место, ни яростные раздоры между политическими партиями и кланами. Даже когда на сцене бывало много шума, приносившая прибыль игра шла за кулисами своим чередом.
Торговые города средневековья все ориентированы на получение прибыли, сформированы этими усилиями. Поль Грус-се, имея в виду эти города, даже заявил: «Современный капита-
2 См. предисловие
П. Груссе (Grousset P.) к кн.: Pernoud R. Les Villes marchandes aux XIV et XV' siecles. 1948, p. 18.
3 Подоходный налог,
установленный Питтом
Младшим в 1799 г.
* Sapori A. Studi di storia economica. 1955, 1, p. 630. s Pirenne H. La Civilisation occidentale аи Moven Age du XI' аи milieu du XV' siede. — Glotz G. Histoire generate. VIII, 1933, p. 99—100. 6 Say J. Cows complet d'economie politique pratique, 1, p. 234.
картины находятся среди двух десятков миниатюр, иллюстрирующих поездки на Левант в 1570—1571 гг. одного венецианского дворянина. Национальная библиотека.
лизм ничего не изобрел»2. «Даже сегодня невозможно найти ничего, включая income tax3, — добавляет к этому Армандо Сапори, — что уже не имело бы прецедента в гениальности какой-нибудь итальянской республики»4. И правда, векселя, кредит, чеканка монеты, банки, торговые сделки на срок, государственные финансы, займы, капитализм, колониализм и в не меньшей степени социальные беспорядки, усложнение рабочей силы, классовая борьба, социальная жестокость, политические злодеяния — все это уже было там, у основания постройки. И очень рано, по меньшей мере с XII в., в Генуе и Венеции (и в этом им не уступали города Нидерландов) весьма крупные расчеты производились в наличных деньгах 5. Но очень быстро появится кредит.
Современные, опережавшие свое время города-государства обращали к своей выгоде отставания и слабость других. И именно сумма таких внешних слабостей почти что осуждала их на то, чтобы расти, становиться властными; именно она, так сказать, сохраняла для них крупные прибыли торговли на дальние расстояния, и она же выводила их за рамки общих правил. Соперник, который мог бы противостоять этим городам-государствам,— территориальное государство, современное государство, которое уже наметили успехи какого-нибудь Фридриха II на Юге Италии, росло плохо или, во всяком случае, недостаточно быстро, и продолжительный спад XIV в. ему повредит. Тогда ряд государств был потрясен и разрушен, вновь оставив городам свободу действий.
Однако города и государства оставались потенциальными противниками. Кто из них будет господствовать над другим? Это было великим вопросом в ранней судьбе Европы, и продолжительное господство городов объяснить не просто. В конце концов Жан-Батист Сэ был прав, удивляясь тому, что «Венецианская республика, не имевшая в Италии в XIII в. и пяди земли, сделалась посредством своей торговли достаточно богатой, чтобы завоевать Далмацию, большую часть греческих островов и Константинополь» 6. Кроме того, нет никакого парадокса в том, что города нуждаются в пространстве, в рынках, в зонах обращения и защиты, т.е. в обширных государствах для эксплуатации. Чтобы жить, таким городам нужна была добыча. Венеция немыслима без Византийской империи, а позднее — без империи Турецкой. То была однообразная трагедия «взаимодополняющих друг друга противников».
ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ МИР-ЭКОНОМИКА
Такое главенство городов может быть объяснено лишь исходя из структуры первого мира-экономики, который наметился в Европе между XI и XIII вв. Тогда создаются достаточно обширные пространства обращения, орудием которого служили города, бывшие также его перевалочными пунктами и по-




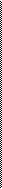 7 Pinto I., de. Traite de
7 Pinto I., de. Traite de
la circulation el du credit.
p. 9
8 См.: Doehaerd R. Le
Наш Моуеп Age
occidental, economies et
societes. 1971, p. 289.
9 Adam P. Op. cit., p. 11.
10 По выражению Анри
Пиренна (Алжир,
1931 г.).
* 16 июля 1212 г. при Лас-Навас-де-Толосе объединенное войско Кастилии, Арагона и Наварры наголову разгромило войско альмохадских правителей Испании.— Прим. перев
лучателями выгод. Следовательно, отнюдь не в 1400 г., с которого начинается эта книга, родилась Европа — чудовищное орудие мировой истории, а по крайней мере двумя-тремя столетиями раньше, если не больше.
И значит, стоит выйти за хронологические рамки настоящего труда и обратиться к его истокам, дабы конкретно увидеть рождение мира-экономики благодаря еще несовершенным ие-рархизации и сопряжению тех пространств, которые его составят. Тогда уже обрисовались главные черты и сочленения европейской истории, и обширная проблема модернизации (каким бы расплывчатым ни было это слово) густо населенного континента оказалась поставленной в более протяженной и более верной перспективе. Вместе с появлением центральных зон почти непременно вырисовывался некий протокапитализм, и модернизация в таких зонах предстает не как простой переход от одного фактического состояния к другому, но как ряд этапов и переходов, из которых первые были куда более ранними, нежели классическое Возрождение конца XV в.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ НАЧИНАЯ С XI В.
В таком длительном зарождении города, естественно, играли главные роли, но они были не одиноки. Их несла на своих плечах вся Европа — читай «вся Европа, взятая вместе», по выражению, вырвавшемуся у Исаака де Пинто7, Европа со всем ее пространством, экономическим и политическим. А также и со всем ее прошлым, включая и отдаленную во времени «обработку», какую навязал ей Рим и какую она унаследовала (эта «обработка» сыграла свою роль); включая также многочисленные формы экспансии, что последовали за великими [варварскими] вторжениями V в. Тогда повсюду были преодолены римские границы — в сторону Германии и Восточной Европы, Скандинавских стран и Британских островов, наполовину захваченных Римом. Мало-помалу было освоено морское пространство, образуемое всем бассейном Балтийского моря, Северным морем, Ла-Маншем и Ирландским морем. Запад и там вышел за пределы деятельности Рима, который, несмотря на свои флоты, базировавшиеся в устье Соммы и в Булони8, оказывал малое влияние на этот морской мир. «Римлянам Балтика давала лишь немного амбры»9.
На юге более эффектным стало отвоевание вод Средиземноморья у мира ислама и у Византии. То, что составляло смысл существования Римской империи, сердце империи во всей ее полноте, этот «пруд посреди сада»10, было вновь занято итальянскими кораблями и купцами. Эта победа увенчалась мощным движением крестовых походов. Однако повторному завоеванию христианами оказывали сопротивление Испания, где после длительных успехов (Лас - Навас - де - Толоса, 1212 г.*) Реконкиста топталась на месте; Северная Африка в широком смысле — от Гибралтара до Египта; Левант, где существование христианских государств в Святой земле будет непрочным; и греческая [Византийская]