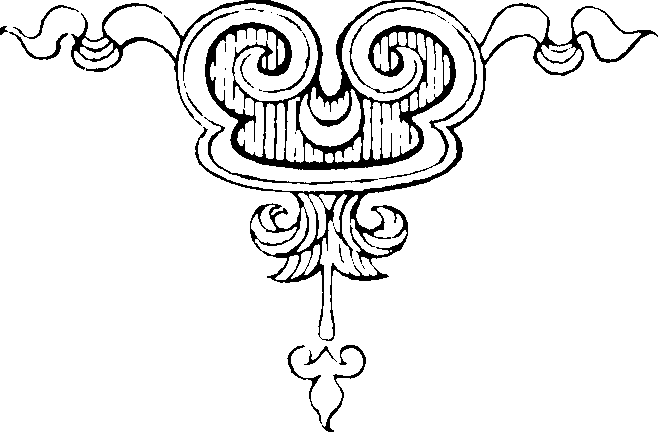
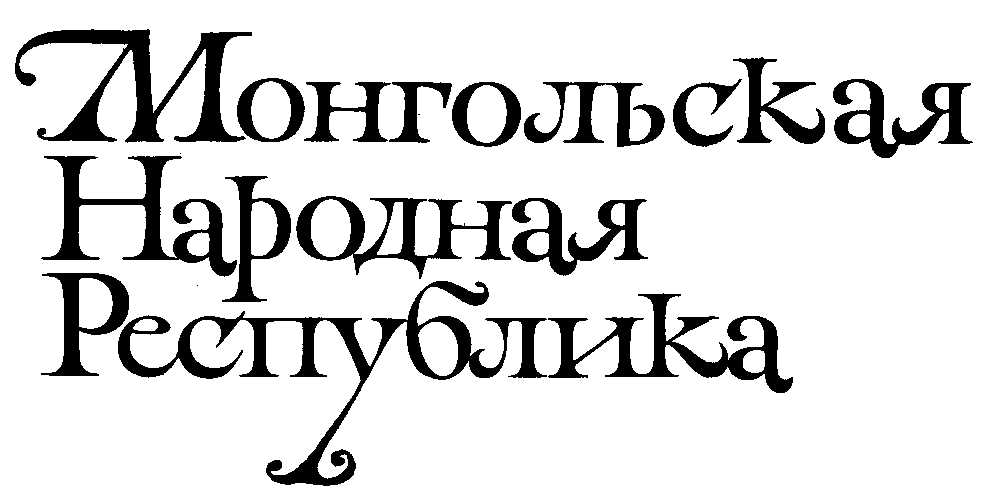
Сэнгийн Эрдэнэ
Сэнгийн Эрдэнэ – известный писатель, журналист, публицист, признанный мастер психологической прозы малого жанра. Родился в 1929 году в семье арата (сомон Биндэр Хэнтэйского аймака), в 1954 году окончил медицинский факультет Монгольского государственного университета. Печатается с 1949 года. В начале творческого пути выступил как поэт. Первая книга стихов «Когда едешь по степи» вышла в 1949 году, вторая – «Весенняя лирика» – в 1956 году. В дальнейшем писатель обратился к прозе. Один за другим вышли несколько сборников его новелл: «Когда приходит весна» (1959), «Год спустя» (1959), «Хонгор зул» (1961), «У самого горизонта» (1962), «Пыль из‑под копыт» (1964), «Рассказы» (1966), «Дневная звезда» (1969). В 1965 году писатель был удостоен Государственной премии. Известны повести писателя «Салхитинцы» (русский перевод – 1961), «Жена охотника», «Богатый оазис», «Год синей мыши» (1970; русский перевод – 1974) и другие.
Значительна и актуальна публицистика С. Эрдэнэ. В произведениях этого жанра, как в рассказах и повестях, автора занимает внутренний мир человека, становление его личности и характера, логика поступков, строй мыслей и чувств. В очерке «Город и человек» (русский перевод – 1973) С. Эрдэнэ пишет, что «последние годы читатели более всего интересуются интеллектуально‑психологической прозой. Это и понятно: эстетические потребности современного образованного человека, вникающего в проблемы науки, техники и политики, не может удовлетворить традиционно‑описательная литература. Современная городская цивилизация мало что оставляет от психологических установок арата‑скотовода. Быстрое крушение старых привычек, неудержимое проникновение интернациональных влияний меняют и обогащают духовный облик людей».
|
|
Это постоянное наблюдение писателя за процессом обогащения духовного облика людей запечатлено, в частности, в его повести «Дневная звезда». Дочь бедной аратки, не дождавшись любимого, погибшего от тяжелых ранений в боях у реки Халхин‑Гол, одна, с ребенком, уезжает в город. Ее собственная стойкость, активное сочувствие чутких людей, движимых высокими нравственными идеалами нового времени, помогают молодой женщине пережить потерю, возродиться для новой жизни.
Г. Ярославцев
ДНЕВНАЯ ЗВЕЗДА
В то лето, накануне халхин‑гольских событий, Цаганху призвали в армию. Словно по волшебству, из мальчишки‑увальня он сразу превратился во взрослого мужчину. Цаганху исполнилось двадцать лет, но его никто не принимал всерьез из‑за того, что он избегал общества девушек и молодых женщин. И хотя он изо всех сил старался изобразить из себя мужчину, у него это не получалось – уж очень он был неловок. Паренек никак не мог преодолеть скованность и застенчивость и постоянно завидовал более удачливым молодым людям. Лишь одно обстоятельство несколько утешало его: он хорошо знал грамоту. Приятно, когда к тебе то и дело обращаются с просьбами написать письмо или составить заявление.
Выжженная солнцем, безмолвно раскинулась обширная долина между реками Онон и Керулен. Во всем ощущалась тревога, казалось, даже воздух был насыщен ею: ходили слухи о неизбежной войне.
В один из знойных дней Цаганху возвращался домой с пастбища. Его отец, старый Юмжир, едва узнав о призыве молодежи в армию, послал сына за хорошим скакуном.
|
|
Юноша отыскал табун с большим трудом – лошади укрылись от жары за гребнем горы, на опушке леса. Он выбрал серого жеребца, а изнуренного долгой дорогой своего коня оставил в табуне.
Возвращаясь домой, Цаганху думал о предстоящей службе.
Куда, в какие края забросит его судьба? Что нового он увидит и услышит? Если верить слухам, скоро начнется война, значит, и его пошлют на фронт... Впрочем, последнее обстоятельство его особенно не тревожило. Впереди новая интересная жизнь. И это главное.
Цаганху скакал по выжженной солнцем степи. Был еще только июль, а трава уже пожелтела и поникла. Окрестные горы казались сонными.
К северу от реки Хялганатын на деревянной кровле монастыря одиноко торчал ганжир[60]. Казалось, он остался там потому, что в последний момент люди поленились лезть так высоко, чтобы его снять. Ламы, жившие еще недавно в монастыре, разбежались – кто обзавелся хозяйством, кто переехал в аймак[61]или сомон[62]и поступил на службу. Два года назад к монастырю стекались толпы верующих. Тогда храм выглядел иначе – величественно и сурово. Даже среди сверстников Цаганху кое‑кто ронял слезу умиления при виде храма. Теперь же пустой и заброшенный храм свидетельствовал о неукротимом беге времени, о тех изменениях, которые совершались в жизни.
Когда Цаганху переезжал почти пересохшую реку Хялганатын, он увидел всадницу. Он сразу узнал младшую дочь старушки Пагмы – Цэрэндулам. Они жили по соседству. Девушке шел всего семнадцатый год. Но парни уже засматривались на нее. Нравилась она и Цаганху. «Я же в армию иду, времени совсем мало...» – подумал он и погнал коня навстречу девушке. Куда только девалась его робость и застенчивость.
|
|
Как чудесно колышется в седле стан девушки! Как сияют ее синие глаза! Серый стремя в стремя остановился рядом с ее буланым.
– Да ты меня едва не опрокинул, – сказала Цэрэндулам.
– Далеко ездила?
– На вершину Овота, просить у неба дождичка, – насмешливо ответила она.
– И что обещало небо?
– Обещало послать дождь.
– Когда же?
– После твоего ухода в армию.
– Вот оно что! Послушай, Цэрэндулам, давай зайдем в монастырь, храм посмотрим.
– Эка невидаль – пустой храм! – ответила девушка. – Скажи‑ка лучше, когда ты уходишь в армию?
– Совсем скоро.
– Хорошо бы, засуха кончилась до твоего отъезда.
– Да. – Он подхватил поводья ее коня и соскочил на землю возле храма.
Девушка вздохнула – пришлось ей все‑таки покориться.
– Ну ладно уж, – сказала она строго, – раз мы пришли помолиться в пустом храме, войдем!
Они привязали лошадей и вошли в храм. Сердца их забились: здесь их отцы и матери на протяжении всей своей жизни возносили молитвы к небу. Теперь храм был пуст. На окнах и потолке птицы свили гнезда. В храме стоял удушливый запах гнилого дерева и мышиного помета.
– Вот на этой скамье слева сидел гавжи[63]Соном, – нарушил молчание Цаганху. – Отец очень уважал его... Гавжи был знаменитым лекарем. Может, и ты его помнишь? Я в этом монастыре провел целую зиму. Мне тогда было семь лет. Здесь я научился грамоте. Хорошо помню этого лекаря. Хитрый был человек – принося богу жертвы, он и себя не забывал. Перед бурханом[64]ставил крошечную серебряную чашечку, а себе наливал огромную чашу. И лицо у него было всегда красное.
Внезапно юноша привлек к себе девушку и поцеловал ее.
– Пойдем отсюда скорее, – упавшим голосом сказала Цэрэндулам – куда только делась вся ее храбрость. – А то еще заметит кто‑нибудь, что мы здесь одни, стыдно будет.
Они выбежали из храма, вскочили на коней и разъехались в разные стороны.
Вечером зажигали костры, и над аилом[65]стояло густое облако дыма. Иначе невозможно было доить коров – не было от комаров спасенья.
Хозяйство у Юмжира было богатое – молоко рекой лилось. Из года в год приезжали из аймака мясники и торговцы молочными продуктами, покупали мясо, масло, заключали новые договоры.
...Цаганху был занят починкой сбруи, когда с улицы в дом ворвался разъяренный отец. Схватив с крючка ремень, он остановился перед сыном.
– А ну говори правду! Что ты делал с дочкой оборванки Пагмы в пустом храме? – заорал он.
– О чем вы, отец? – спросил Цаганху.
Своим вопросом он окончательно вывел Юмжира из себя. Удары ремня посыпались на голову и плечи парня.
– Скажешь теперь, собака?
– Нет! Не скажу!
От криков и ругательств Юмжира дрожали стены. Глаза у него налились кровью.
– Ну, щенок, натворил ты дел! Черт бы тебя побрал! Тебе в армию идти! Вот о чем думать надо, а не шашни с девками заводить. Я еще с той мерзавкой поговорю по‑своему, не погляжу, что мать старуха, свяжу, да и...
Цаганху вдруг вскочил и сжал кулаки.
– Что вы городите? – заорал он в ответ и бросился из дому.
– Куда ты, паршивец? – крикнул отец ему вдогонку.
Но сына уже и след простыл. Он ускакал верхом на коне, успев, однако, крикнуть, что пожалуется на самоуправство отца сомонным властям[66]. Это слышали все соседи, доярки и дети.
В ту ночь Южмир не мог уснуть. И не столько из‑за того, что сын согрешил с девчонкой в пустом храме, сколько из‑за себя самого. Тяжелый был он человек. Некоторые считали его добрым и отзывчивым. Но в действительности он не был таким, его интересовала только собственная выгода. В трудную минуту, не задумавшись, он мог столкнуть в воду ближнего. Бедняков ненавидел – с тех пор, как победила в стране революция и закон стал на их сторону. А теперь вот его родной сын пошел на сближение с девчонкой из неимущей семьи. Этого он не мог перенести. Ну и времена! Все кувырком идет! Мало этого, вместо того чтобы внять отцовскому поучению, сын грозится на него жалобу подать! Ну, ничего, в армии его обломают, научат старшим повиноваться...
Так думал Юмжир, беспокойно ворочаясь с боку на бок.
...Когда погасли вечерние сумерки, Цаганху спешился возле юрты старой Пагмы. Рядом стояла еще одна юрта – там жила старшая сестра Цэрэндулам с мужем и двумя сыновьями.
Юноша, стараясь не шуметь, привязал коня к коновязи. Старуха, кажется, уже похрапывает. Цаганху тихонько кашлянул. В ответ раздался скрип кровати. Цаганху зашептал в щель:
– Цэрэндулам, выйди ко мне. Это я.
Бесшумно ступая босыми ногами, девушка подошла к двери. Она была так близко от Цаганху, что он почувствовал ее дыхание.
– Я сейчас, – прошептала девушка.
Под навесом, куда прокрался Цаганху, остро пахло свежевыделанными шкурами. Через минуту открылась дверь юрты и появилась Цэрэндулам. Цаганху взял ее за руку.
– Послушай, я только что едва не подрался с отцом.
– Догадываюсь, – весело сказала девушка.
– Я не стерпел его нападок, сказал, что еду жаловаться, а сам – к вам. Подумать только, как быстро всем стало известно, что мы с тобой вдвоем были в пустом храме. Да мне казалось, нас никто и не видел. Интересно, кто это мог насплетничать про нас?
– Я, – засмеялась в ответ девушка.
– Не говори ерунду!
– Так оно и есть! Когда мы с тобой расстались, я по дороге встретилась с тетушкой Чанцал. Она спросила, куда я ездила. Я ответила: в храм вместе с Цаганху. «Что вы там делали?» – спрашивает. «Как что? Молились бурханам». – «Это в пустом‑то храме?» – «Но когда‑то он не был таким. Неужто человеку перед уходом в армию и помолиться нельзя?» – пошутила я. Вот тебе и тетушка Чанцал! Чем тебе не телеграф!
Цаганху ничего не ответил. Подняв девушку на руки, он крепко прижал ее к себе. Цэрэндулам обхватила его за шею.
...Среди ночи вдруг поднялся сильный ветер, засверкали далекие молнии. Почувствовав приближение ливня, Цаганху сказал:
– Смотри‑ка, Цэрэндулам, выходит, ты дождь выпросила. Кончается засуха!
Потоки воды хлынули на иссохшую землю. Оглушительно гремел гром. Природа ликовала. И это ликование сливалось с бурной радостью двух влюбленных.
Казалось, все произошло, как по волшебству, и они были счастливы. Они были вместе. Теперь у них все будет общее: тревоги и волнения, радость и невзгоды. Отныне они навсегда принадлежали друг другу.
– Похоже, это мы с тобой покончили с засухой, – сказала девушка, лаская Цаганху. – Уткнувшись ему в плечо, она вдруг расплакалась. – Тебе пора возвращаться домой, любимый. Скажи своей матушке, что ее заказ готов, шкурки выделаны. Она, верно, хочет сшить тебе из них новый теплый дэл[67].
Когда Цаганху вернулся домой, отец уже встал и теперь сидел за чаем. Он строго взглянул на сына.
– Ты что, ливень в лесу пережидал? Сомонные власти тебя, надо думать, похвалили: хорош, мол, сынок, на отца жалуется! Однако хватит шутить. Тебе повестка! Только что привезли. Через двое суток велено прибыть в сомонный центр. Понял?
– Понял, отец, – ответил Цаганху, вешая уздечку.
В долине реки Хялганатын царило оживление – провожали в армию парней. Засуха кончилась, и природа ожила. Засинело небо. Поднялись травы. Даже не верилось, что всего несколько дней назад стояла засуха.
Призывники собрались на подворье Юмжира. Цаганху, одетый в новый шелковый дэл, подпоясанный зеленым поясом, сидел молча, изредка отирая пот с лица. Улучив минуту, когда стих шум, Юмжир поднял серебряную чашу с водкой и, прикрыв глаза, начал молиться. Губы его при этом чуть заметно шевелились. Окончив молитву, он окунул безымянный палец правой руки в водку и благословил все четыре стороны света.
– Ну, дети, – сказал Юмжир, – настал ваш черед служить государству. Служите хорошо. Будьте смелыми и храбрыми. Не посрамите чести своих родителей. В тревожное время покидаете вы родные края. Да, как говорится, добрый конь о камень не споткнется. Я желаю всем вам вернуться домой живыми и здоровыми!
Ушедшая из дома рано утром Цэрэндулам вернулась после полудня и принесла с собой маленькое деревянное ведерко.
– Что это у тебя? – спросила мать.
– Молочная водка, – ответила Цэрэндулам.
Старушка подумала, что дочь шутит, и засмеялась беззубым ртом.
– Правда, мама. Помнишь, тетушка Ням обещала дать нам осенью теленка за работу? Вместо него я теперь взяла водку.
– Зачем нам водка?
– Ты слышала, что наши парни в армию идут?
– Ну, слышала.
– Сейчас они у Юмжира. Потом поедут по аилам. Может, они не поглядят, что наш аил бедный, и к нам заедут. Нехорошо, если у нас не окажется, чем их угостить.
– Твоя правда, доченька.
Цэрэндулам, несмотря на свои приготовления, в душе все же сомневалась, заедут ли к ним гости. Самым большим ее желанием было повидать Цаганху. И почему только она сама его не пригласила?
Наблюдая за дочерью, всегда веселой и радостной, мать дивилась теперь ее тихому поведению. Цэрэндулам сделалась молчаливой и все время о чем‑то думала, но о чем, старушка не осмеливалась спрашивать. В конце концов девушка не вытерпела – собрала овечьи шкурки, выделанные по заказу Юмжира, и решила поехать к ним. Сестра Цэрэндулам пыталась ее удержать:
– У них там пир горой, а тебе приспичило являться...
Но ничто уже не могло удержать девушку.
В доме Юмжира готовились к торжеству – слышались высокие и низкие мужские голоса, смех. Мать Цаганху, крупная пожилая женщина, громким пронзительным голосом отдавала распоряжения девушкам, хлопотавшим на кухне. Она придирчиво ощупала принесенные шкурки и, не найдя изъянов, сказала:
– Ладно, хорошо работаешь! Можно подумать, у тебя не две руки, а четыре. Ближе к осени мы дадим вам овечку. Жалею я твою мать. Она старается, бедняга, чтобы из тебя человек вышел.
Слова эти задели девушку, но она и вида не подала, что обиделась. Однако в ответе ее прозвучал вызов:
– Не беспокойтесь о плате, тетушка Дулам. Все знают, как вы любите помогать людям.
– Тоже мне богачка выискалась, лучше бы о матери побольше думала, – ответила супруга Юмжира, делая вид, что не уловила иронии в словах Цэрэндулам.
Девушка не уходила – она надеялась повидаться с Цаганху.
Наконец дверь отворилась, она увидела любимого.
– Я принесла шкурки для твоей матери, Цаганху. Ты заезжай к нам, не смотри, что мы бедные.
Он ответил ей любящим взглядом.
– Приеду, обязательно приеду.
Услышав слова сына, Дулам‑авгай[68]сердито загремела ведром:
– Приедет, приедет, он в любое жилье готов заехать. Были бы двери открыты...
Дома Цэрэндулам, не чуя под собой ног от радости, вместе с матерью и сестрой готовила праздничный стол. Для Пагмы, которой довелось испытать много горя в жизни, младшая дочь была отрадой, и она, глядя на ее оживленное личико, тоже радовалась.
Мужа старшей дочери, давно вышедшего из призывного возраста, уже месяц не было дома. Он подрядился отвезти груз в Эрэнцав.
В тот вечер старая Пагма особенно внимательно приглядывалась к своим дочерям. Очень уж они были разные. А ведь одной матерью рождены! На глаза ее то и дело набегали слезы.
Цаганху вместе с четырьмя товарищами – остальные разъехались по домам – появился поздно. Он достал из‑за пазухи новенький голубой хадак[69]и преподнес его старушке:
– Желаю вам дождаться нашего возвращения и быть здоровой. Не скажете ли благопожелание в честь нашего отъезда?
Смахивая слезы тыльной стороной ладони, старая женщина сказала:
– Желаю вам жить долго‑долго и счастливо‑пресчастливо!
Цаганху заметил, как тщательно причесана Цэрэндулам и что на ней ее единственный шелковый тэрлик[70], и ему вдруг стало не по себе. «Они не увидятся несколько лет! Лучше бы все это случилось в другое время. Как он теперь расстанется с Цэрэндулам?» До сих пор ему не приходилось испытывать горечь разлуки. От одной только мысли о ней у Цаганху больно сжималось сердце.
Наутро все двадцать призывников отправлялись на службу. Никто не бежал за ними босиком. Никто не плакал в голос. Провожая близких в дальний путь, люди соблюдали старинный обычай, повелевающий сдерживать свои чувства. Вместе со всеми провожала парней в армию Цэрэндулам. Девушка кропила им вслед молоком[71], а слезы катились у нее по щекам.
Зима в тот год стояла теплая. У старой Пагмы в хозяйстве скота было немного, и беспокоиться за него не было нужды. Хватало подножного корма. Кроме того, еще с осени Цэрэндулам заготовила сена. И вообще эта зима была самой хорошей в жизни девушки и ее матери. Они рано перекочевали на зимник, заранее утеплили маленькую серую юрту, починили сарай для скота, заготовили мяса, прирезав теленка, полученного в уплату за выделывание шкурок. Теперь старуха пряла шерсть и вязала чулки. Цэрэндулам шила.
Зимой Цэрэндулам ощутила, как шевелится в ее чреве дитя. Мать и дочь до последней возможности скрывали, что в их семействе ожидается прибавление. Да только как ни скрывай, разве такое скроешь? Цэрэндулам сама сперва ни о чем не догадывалась и, только когда к концу осени заметила, как раздалась ее талия, решила обо всем рассказать матери. Теперь она частенько плакала, глядя на далекие горы. Мать и сестра сообразили, от кого будет у Цэрэндулам ребенок, но помалкивали – такова уж женская доля. Больше всего их тревожила людская молва. Злой язык, как червь, может источить человеческую душу. Недоброе слово приносит горе. Оно лишает человека душевного равновесия и лишает его надежды на лучшее.
Цэрэндулам еще в начале зимы стала посещать кружок грамоты. Она быстро усвоила алфавит, научилась из букв составлять слова. Это было удивительным событием в ее жизни. Занятия в холодной юрте под красным флажком, за столом, грубо сколоченным из необструганных досок, вдруг как‑то преобразили ее жизнь и породили страстное желание жить по‑новому. При одном только виде карандашей и тетрадей в ней крепло чувство, что жизнь ее должна измениться к лучшему.
Вскоре знание грамоты принесло и первые плоды. Юноши с берегов реки Хялганатын несли службу в части, расквартированной в Баинтумэни. Примерно через месяц от Цаганху пришло письмо. Цэрэндулам, не умевшая тогда читать, прижимала к сердцу маленький треугольничек и страшно горевала, что не может узнать, о чем пишет любимый. Но просить чужих людей прочитать ей письмо было стыдно. Да и осторожней стала теперь Цэрэндулам. Тогда‑то и созрело у нее решение самой научиться грамоте. Разыскала одного грамотного старичка, упросила его показать буквы. А когда в начале зимы организовался кружок по ликвидации неграмотности, она записалась в него одной из первых. Если учитель хвалил Цэрэндулам, радости ее не было предела, словно сбывалось то, о чем она мечтала всю жизнь.
Но не только духовно окрепла Цэрэндулам. В вечно смешливых глазах появилось что‑то мягкое, взгляд ее сделался спокойнее. Интересно, какой станет она через несколько месяцев, через год? Окружающий мир день ото дня казался ей все удивительней и прекрасней. Все, казалось, было знакомо и привычно с самого детства – плывущий с речки белый туман, собственная маленькая юрта, телеги с сеном на дороге, темные тропки на белом снегу. Но теперь все это словно ожило вновь, обрело новое звучание, новые краски.
Однажды она, как обычно, возвращалась домой, мысленно повторяя все, что они проходили в тот день на занятиях кружка, а когда пришла, оказалось, что у них гость – дарга[72]Данзан. Мать вышла. И тогда Данзан, огладив бороду и поблескивая глазками, сказал:
– Тетушке Пагме пришла разнарядка на перевозку грузов. Как ты себя чувствуешь, Цэрэндулам? Я решил навестить семью солдата. Для него семья – прочный тыл.
– Значит, я стала прочным тылом? – спросила Цэрэндулам, заливаясь краской.
Данзан засмеялся.
– Меня, девушка, стесняться нечего. Знать, что происходит в аилах, – моя прямая обязанность. Да и нет на тебе никакой вины. Ты в том возрасте, когда женщине самое время стать матерью. Правда, есть еще и такие – наплодят детей, а что с ними делать, не знают. Но ты не чета им. Скрываешь имя отца будущего ребенка? Ну что ж, это твоя воля.
С Цэрэндулам впервые говорили так прямо о самом для нее сокровенном. Она была смущена и ничего не могла ответить. Такая бесцеремонность казалась ей оскорбительной. Данзан же не унимался:
– А я и не знал, что ты стала взрослой. Давно ли бегала по аилу с другими ребятишками, а теперь посмотрите на нее – готовится стать матерью.
Цэрэндулам помрачнела. Не поднимая глаз, сидела она перед печкой и бесцельно помешивала золу, лишь бы не встретиться с его пронзительным взглядом.
– Вообще‑то женщины быстро старятся. Быстрее мужчин. Посмотри‑ка на меня, разве я старый? – засмеялся Данзан. – Ну ладно, шутки в сторону. Мы должны послать в аймак сорок повозок. Вы тоже должны внести свою лепту. Зная ваше положение, я прежде освобождал вас от этой повинности. А сейчас не могу. Людям это не нравится.
– Но у нас всего одна лошадь, – возразила Цэрэндулам.
– Знаю, поэтому и требую с вас всего самую малость. Но в этот раз лошадь вам все‑таки придется послать.
– Трудно нам остаться без лошади.
– Ну ладно, не горюйте. Что‑нибудь придумаем. – Он поднялся с места и, закинув за плечо сумку, с которой никогда не расставался, направился к выходу. Неожиданно он остановился. Провел рукой по спине девушки.
– Ладно, вдвоем с тобой мы что‑нибудь придумаем... От его прикосновения внутри у Цэрэндулам словно погас огонек.
Она знала этого хитрого и льстивого человека с детства. Лицемерный и переменчивый – таков был Данзан. Его маленькие бегающие глазки так и шныряли вокруг. Никогда Данзан на входил первым в двери, всегда пропускал других впереди себя. Часто он смеялся над тем, что вовсе не было смешным. Он мог и зло подшутить над человеком, и напустить на себя высокомерие...
Цэрэндулам родила сына в самый разгар весны. Голосок у малыша оказался звонкий, тельце хорошего сложения, кожа белая.
...Минул месяц, как она отправила Цаганху письмо, написанное собственной рукой. Цэрэндулам с нетерпением ожидала ответа. Вот обрадуется Цаганху, узнав, что у них родился сын и что она научилась писать! И сейчас еще перед глазами у нее стоял голубенький конверт, на котором она старательно вывела: «Солдату Юмжирийн Цаганху, Баинтумэнь, воинская часть номер...»
Самым важным в ее письме был вопрос: какое имя дать сыну. Она и прежде была уверена, что у нее родится сын, – уж очень он энергично толкал ее под самое сердце...
Опытные женщины советовали ей накануне родов не отлучаться далеко от дома. Но Цэрэндулам не могла усидеть на месте. Несмотря на запреты матери и сестры, она продолжала гонять коров и телят на водопой. Каждый раз обещала, что впредь это не повторится. Вот и в тот день, когда родился ее первенец, она, как обычно, пригнала коров, а потом, сказав, что хочет немного подышать свежим воздухом, села на лошадь и уехала в степь. Не успела она вернуться домой, как начались схватки. Молодая женщина рожала в жестоких муках. Был даже момент, когда она потеряла сознание, и это вызвало большой переполох среди находившихся поблизости женщин. Но все обошлось благополучно. И когда к Цэрэндулам вернулось сознание, она увидела крошечное красное личико сына.
Для Цэрэндулам началась новая жизнь. Словно желая вознаградить мать за все страдания, которые он причинил ей при рождении, ребенок вел себя очень спокойно: ел да спал. Она с удовольствием показывала новорожденного соседским женщинам и девушкам. Люди говорили, что в будущем сын принесет счастье своим родителям. Но не обошлось и без слов, слышать которые было горько. Говорили, что, мол, дочь старой Пагмы не пара сыну Юмжира, что невестка в хозяйстве Юмжира станет просто батрачкой.
Накануне отъезда на летник пришло от Цаганху письмо. О том, как назвать сына, писал Цаганху, он думал несколько дней и даже с друзьями советовался. Получалось, что нет лучше имени для сына, чем Борху. Кроме того, он сообщал, что просил родителей позаботиться о ней и ребенке.
Цэрэндулам, читая письмо, смеялась и плакала. И слезы падали на круглое личико малыша, который теперь уже имел и свое имя – Борху.
В жаркий июльский день 1939 года Цэрэндулам обрабатывала бычью шкуру, а старая Пагма, разостлав в тени юрты войлочный коврик, играла с внуком. Глаза у малыша были как у матери, а грудь – в отца, квадратная. Пагма дала ему поиграть свои четки – вещь, которую никогда прежде из своих рук не выпускала. Но то ведь было прежде... Теперь же в юрте старой женщины поселилась неиссякаемая радость. И причиной ее было появление на свет Борху. Она нянчила внука и думала о том, что нет той меры, которой женщина могла бы измерить свое счастье. Вот в свое время она рожала детей, многие из них умерли, и она каждый раз тяжело переживала утрату. А теперь опять появился ребенок, который в ней нуждается, и это приносит ей счастье.
Все вокруг дышало покоем и миром. Ласточки высиживали в гнездах птенцов. В лощинах, поросших седой полынью, и на берегах озер паслись табуны. Однако мир и покой были обманчивы. Далекие раскаты войны доносились и в эти края. Особенно тревожно было в семьях, которые проводили в армию своих близких. Можно ли было оставаться спокойным, когда все знали, что на Халхин‑Голе шли жестокие сражения. Фронт был далеко от этих мест, но веяние его ощущалось и здесь. По мобилизации забирали лошадей и подводы. Приходилось больше работать...
Кончив дубить кожу, Цэрэндулам снова намотала ее на кожемялку. Сколько раз, вращая тяжелое колесо, она думала, что вся ее жизнь движется по такому же замкнутому кругу! И вот теперь это движение изменилось. Изменилась и она – выровнялась, пополнела. Высокой груди было тесно в стареньком выцветшем дэле. Походка ее сделалась упругой и плавной. Умно и спокойно смотрели прежде такие озорные глаза. Она превратилась во взрослую женщину.
Но забот и тревог у нее значительно прибавилось. Глядя на сына, прыгающего на коленях у бабушки, она думала о любимом, ушедшем на фронт.
Однажды, оторвавшись от работы, Цэрэндулам подняла голову и увидела направлявшуюся к ним небольшую четырехколесную телегу, запряженную белой лошадью. На телеге сидели двое, и она тотчас же узнала седоков. Это были Юмжир‑бавай[73]и Дулам‑авгай.
– Это же родители Цаганху! – воскликнула Цэрэндулам.
Пагма всполошилась:
– Ступай, доченька, в юрту, переоденься и выходи навстречу гостям. А я чай приготовлю. – Подхватив ребенка, она поспешила в юрту.
Первым побуждением Цэрэндулам было последовать совету матери, но в ней вдруг заговорило упрямство – не станет она переодеваться. Пусть родители Цаганху видят, что сын их выбрал бедную девушку. И она ограничилась тем, что стряхнула с дэла клочки шерсти и сунула ноги в старые гутулы[74].
Повязав пестрый платок, она вышла встречать гостей. Приветливо поздоровалась со стариками, привязала их лошадь. Юмжир молодцевато соскочил с телеги. Но когда ноги его коснулись земли, он по‑стариковски поморщился. В телеге лежала связанная овца.
– Это вам подарок от нашего сына, – сказала супруга Юмжира. – Мы просим принять его.
Подхватив узел, Дулам направилась вслед за мужем прямо в юрту.
– Много приходится кож выделывать? – спросила она у молодой женщины. – У меня для тебя тоже работа найдется...
Между тем Юмжир достал из‑за пазухи хадак, положил его перед бурханами и вознес молитву. Поинтересовавшись здоровьем Пагмы, гости сказали, что хотели повидать сына своего сына – они не называли его своим внуком, – но, занятые работой, все не могли выкроить времени. Дулам развязала узел, достала отрез пестрой ткани и, положив сверху горсть кускового сахара, поднесла Пагме.
– Примите наше скромное подношение.
Немногословная от природы, старая Пагма смутилась.
Не зная, что сказать, она вдруг объявила:
– Не надо мне, зачем все это?..
Пока мать с дочерью накрывали на стол, проснулся Борху. Он потянулся и зевнул, совсем как взрослый. Вообще это был очень спокойный ребенок. Он словно понимал, что родился в бедном аиле и привлекать к себе излишнее внимание ни к чему.